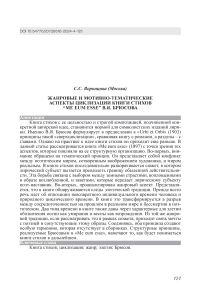Жанровые и мотивно-тематические аспекты циклизации книги стихов “Me eum esse” В.Я. Брюсова
Автор: Воронцова С.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Книга стихов с ее цельностью и строгой композицией, подчиненной конкретной авторской идее, становится нормой для символистских изданий лирики. Именно В .Я. Брюсов формулирует в предисловии к «Urbi et Orbi» (1903) принципы такой «сверхциклизации», сравнивая книгу с романом, а разделы - с главами. Однако на практике к идее книги стихов он приходит еще раньше. В данной статье рассматривается книга «Me eum esse» (1897) с точки зрения тех аспектов, которые повлияли на ее структурную организацию. Во-первых, внимание обращено на тематический принцип. Он представляет собой конфликт между поэтическим миром, сотворенным воображением художника, и миром реальным. В книге стихов последовательно разворачивается сюжет, в котором лирический субъект пытается преодолеть границу обыденной действительности. Эта борьба связана с выбором между земными страстями, воплощенными в образе возлюбленной, и заветами, которые передает лирическому субъекту поэт-наставник. Во-вторых, проанализирован жанровый аспект. Представляется, что в книге обнаруживаются следы элегической традиции. Прежде всего речь идет об оппозиции невозвратного индивидуального времени человека и природного циклического времени. В книге это трансформируется в разрыв между сосредоточенностью на прошлом в реальном мире и бессмертии в поэтическом. Два типа времени в книге также даны через характерные для элегии обозначения осени как умирания и весны как возрождения. Из той же жанровой традиции, если рассматривать это в рамках сюжета, приходит связь мечты с поэзией и сопутствующие этому образы. Соединяясь, оба принципа создают особую гармонию, которая отсутствует в сборниках. Структурные принципы, реализуемые Брюсовым в «Me eum esse», намечают то, как будет пониматься книга стихов в дальнейшем.
Книга стихов, циклизация, жанр, элегия, брюсов
Короткий адрес: https://sciup.org/149147181
IDR: 149147181 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-121
Текст научной статьи Жанровые и мотивно-тематические аспекты циклизации книги стихов “Me eum esse” В.Я. Брюсова
Book of poems; cyclization; genre; elegy; Bryusov.
Важнейшая характеристика книг лирики символистов – особая цельность. В XVIII – начале XIX вв. поэты преимущественно избирали рационалистические способы циклизации (например, по жанровому принципу). Позднее предпочтение отдается тематическому принципу, «в начале XX в. циклизация в лирике приобретает характер нормы творчества» [Дарвин 2018, 61]. Значение этому предавал А. Блок. «Собрание стихотворений», названное «трилогией вочеловеченья» [Белый, Блок 2001, 406], составило единое целое: «Каждое стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга, каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать “романом в стихах”» [Блок 1997, 179]. Проблема циклизации поднимается на новый уровень. В трилогии он меняет изначальную структуру сборников и «вопрос о перециклизации стихотворений, об изменениях структуры цикла и книги стихов – один из ключевых вопросов блоковской поэтики» [Магомедова 1986, 49]. Другой пример – «Кормчие звезды» (1903) Вяч. Иванова с подзаголовком «Книга лирики». На композиционную строгость его книг обращает внимание М.М. Бахтин: «Все его сборники как бы делятся на главы и главы расположены последовательно, продолжают одна другую» [Бахтин 2000, 322].
Параллели между книгой стихов и романом проводит В.Я. Брюсова в «Urbi et Orbi» (1903): «Книга стихов должна быть не случайным сборником разнородных стихотворений, а <…> замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман, <...> Отделы в книге стихов – не более как главы, <…> которых нельзя переставлять произвольно» [Брюсов 1903, V]. Он отходит от привычного тематического принципа и дает разделам жанровые заглавия. Но сама рефлексия над жанрами становится темой [Магомедова 2003, 183]. До теоретического осмысления понятия Брюсов уже его использует. «Chefs d’oeuvre» (1895) имеет подзаголовок «Сборник стихотворений», но «Me eum esse» (1897) и «Tertia vigilia» (1900) названы – «Новая книга стихов» и «Книга новых стихов». Встает вопрос о поиске подхода к циклизации. В данной статье эта проблема рассмотрена на материале книги «Me eum esse», где поэт впервые отказывается от категории «сборник». Связь между элементами книги задана еще не столь жестко: «Я издаю книгу далеко незаконченную, в которой некоторые отделы только намечены, – потому что не знаю, когда буду в состоянии продолжить ее» [Брюсов 1897, 7]. Пересечение контекстов [Дарвин 2018, 24] предполагается не только между уровнями внутри нее. Открытость потенциально позволяет выстроить связь со следующей. Заглавие (с лат. «Это – я») намекает на значение темы творчества, ведь «Я» – это Брюсов-поэт, что подтверждается в предисловии: «В отрывках, уже написанных, достаточно ясно выступает характер моей новой поэзии» [Брюсов 1897, 7]. Поэзия «нового искусства» – тема, объединяющая разделы. В книге развивается сюжет, где функционирует лирический субъект. Происходит «развертывание рефлексии лирического “я”, направленное к преодолению внутренних границ мира» [Малкина 2008, 115]. Граница эта – между реальным миром и воображенным художником. Действователь, «преодолев границу, <…> вступает в семантическое “антиполе” по отношению к исходному» [Лотман 1970, 291]. Обязательно наличие препятствий: «“вредители” волшебной сказки, <…> ложные друзья плутовского романа или ложные улики в детективе» [Лотман 1970, 291]. У Брюсова «антиполе» – мир поэзии, а препятствие – страсть к женщине. Еще один аспект, повлиявший на цельность книги – присутствие черт элегического топоса. Во-первых, уныние, разочарование, погруженность в воспоминания как основные состояния субъекта. Во-вторых, оппозиция невозвратного индивидуального времени и цикличного природного [Магомедова 1997, 7–9].
Разделы содержат заглавие и эпиграф, отражающие основное содержание. Первый «Заветы. Красота и смерть непременно одно» [Брюсов 1897, 10] включает стихотворения о правилах для лирического субъекта на пути становления поэтом. В декадентском духе романтизируется смерть, но не биологическая. Умирая в действительности, художник продолжает жить в своем творении, в мире истинной красоты. Прослеживается мироощущение «позитивной диаволики панэстетизма» [Ханзен-Лёве 1999, 51]: natura naturata – мертвое, но жив мир искусства. В стихотворении «Юному поэту» поэт-наставник дает заветы молодому творцу: «Только грядущее – область поэта» [Брюсов 1897, 11]. Прошлое, на котором сосредотачивается элегия, не упомянуто. На деле воспоминания будут играть не последнюю роль, отдаляя субъекта от истины. После следуют тексты без заглавий – единый рассказ об уходе от обыденности к инобытию. В некотором смысле, это схоже с ситуацией поэтического побега в элегиях [Гельфонд 2008, 122]. Семантическое поле мира состоит из понятий: сон – чары – песни – слова – мечта – строка – грезы – откровения. Одна из сфер, отводимых в элегии мечтам (грезам и т.п.) – поэзия. Она олицетворяет мир воображения поэта [Вацуро 1995, 83]. Уход от нее часто дан как «аллегория жизненного челна в бурном море» [Вацуро 1995, 84], у Брюсова есть схожий образ, когда субъект отдаляется от мечты-поэзии: «горит волна; // Челнок опрокинутый бродит» [Брюсов 1897, 46]. Пространство это наделено сакральным смыслом [Брюсов 1897, 12], обнаруживается и библейский подтекст. Творящие чары волхвы в Евангелии – μάγοι, т.е. буквально «маги» [Греческо-русский словарь… 2012, 133]. Фигура волхва равна поэту с магической силой слова. Строка «И в пустыне следить, как восходит звезда» [Брюсов 1897, 14] отсылает к сюжету о явлении Вифлеемской звезды. Наблюдает за ней волхв-поэт, и явление возвещает рождение в творчестве. Роль мага отводилась Брюсову и в жизни. Такая точка зрения во многом сформировалась из-за А. Белого. Этот образ он развивал в диалоге [Кихней, Ламзина 2022, 42], начавшемся со стихотворения «Маг» [Белый 1904, 123]. Та же номинация встречается в воспоминаниях: «предо мною порой раскрывался “маг” Брюсов» [Белый 1995, 132].
В тексте «По поводу Chefs D’oeuvre» говорится о предыдущей книге Брюсова. Поэт-наставник создает «к неземному земные ступени» [Брюсов 1897, 16], убеждая: «Прошедшего – нет» и «Уснувши, ты умер, // И утром воскрес» [Брюсов 1897, 17]. Он переосмысляет основной конфликт элегии, основанный на скоротечности жизни. Сотворенное поэтическим словом –вечно, как мир природы в элегии. В ней достичь возрождения невозможно, а тут поэт способен обрести бессмертие. «Голос – угрюмый оракул» [Брюсов 1897, 18] (с заглавной буквы, так как говорит поэт-Бог) предлагает отречься от реальности, стать создателем собственного мира: «Приветствуй лишь грезы искусства, // Ищи только вечной любви» [Брюсов 1897, 18].
Второй раздел «Видения. Строгие строфы скользят невозвратно, // Скользят и не дышат – и вечно живут» [Брюсов 1897, 19] посвящен конфликту между вещным миром и творческим. Намечается образ возлюбленной. Она, как и поэт-наставник, – повторяющийся герой. Появляется характерная для элегии оппозиция времен года. Возникают мортальные мотивы: девушка чертит на «зимнем стекле», белая роза «увядает», а голуби «скрылись прочь». Но «за морем тогда расцветала весна» [Брюсов 1897, 21], означающая возрождение. Оппозиция говорит о принадлежности героини к миру, из которого субъект должен вырваться. Первая встреча происходит «на улице, серой и пыльной», ей противопоставлено «небо – всегда голубое», которое «дышало поэзией» [Брюсов 1897, 22], подчеркивая разрыв между мирами. Однако предпочтение отдается любви к девушке, чей «взгляд выше тысячи звезд» [Брюсов 1897, 22]. Звезда олицетворяла восхождение творческого начала. Мир искусств отвергается в угоду ложной красоте: «Умрите, умрите, слова и мечты, // – Земное всесильно в лучах красоты» [Брюсов 1897, 23]. Но девушка «в трауре с длинной вуалью» [Брюсов 1897, 24] напоминает о мимолетности жизни. Голубое небо теперь с «горящими в огне» облаками принадлежит к области реального и является «миражом непонятным» [Брюсов 1897, 24]. «Видения» – не плоды фантазии, но призрачная обыденность. Субъект постепенно осознает значимость исключительно искусства. Возлюбленная обретает телесность и теряет былую привлекательность: «О, как ей не шел пунцовый цвет» [Брюсов 1897, 25].
В третьем разделе «Скитания. Создал я грезой моей // Мир идеальной природы; // О, как ничтожны пред ней // Степи, и скалы, и воды» [Брюсов 1897, 27] субъект переоценивает взгляды в пользу внутреннего мира. Ситуация скитаний схожа с ситуацией бегства, которая «служит фоном во многих элегиях» [Манн 1995, 135]. Обычно это бегство из города на природу. У Брюсова оно переосмысляется как стремление сбежать от земного к созданному в слове. Ил- люзорность реальности подчеркивается тем, что «золотой, сверкающий крест» [Брюсов 1897, 30] исчезает за лесом. «Алмазный, сверкающий крест» [Брюсов 1897, 23] был виден в глазах возлюбленной. В «негативной символике эстетизма» [Ханзен-Лёве 1999, 38] алмаз и золото ассоциируются с сотворением текста, как превращение в драгоценный камень или металл [Ханзен-Лёве 1999, 65], и интерпретируется отрицательно. В книге значима символика панэстетизма, и их безжизненность переносится на действительность, а не фантазию. Земная природа проигрывает: море «бледно» и «неверно» [Брюсов 1897, 31] и не похоже на идеальные создания художника. В элегиях природа – циклична, но тут подвластна ходу времени: «Над миром скал проносятся годы, // Но вечен только мир мечты» [Брюсов 1897, 32]. Ее место занимает вечность в творчестве.
В разделе «Любовь. И снова дрожат они, грезы бессильные. // Бессильные грезы ненужной любви» [Брюсов 1897, 33] субъект опять тоскует по утраченной возлюбленной, существующей в воспоминаниях. А долгожданная встреча не приносит счастья: «Мы бродили вдвоем и печальны» [Брюсов 1897, 39]. Тайны «беспощадные, жадные», слова представляются «диссонансом больным». В слове, выражающем страсти, отсутствует стройность слова поэтического. Пейзаж пронизан унынием: месяц «безжизненный» и светит «угрюмо», стебельки качаются «тревожно», тени «утомлены и невеселы» [Брюсов 1897, 39–40]. Любовь невозможно вернуть, как в целом невозможен возврат в элегии. Она – мимолетна, в отличие от поэзии.
В разделе «Веянье смерти (Прошлое). О, горько умирать, не кончив, что хотелось» [Брюсов 1897, 41] сильнее всего ощущается влияние элегии. Разочарованный субъект сосредоточен на переживании прошлого, быстротечности времени, предчувствии неизбежности смерти: «Часы неизменно идут, // Идут и минуты считают... <…> Так медленно гроб забивают» [Брюсов 1897, 43]. Реальность – мертвая в противоположность творческим созданиям: «Живыми лишь думы остались» [Брюсов 1897, 43]. В тексте «Последние слова» субъект сосредотачивается на воплощении дум. Но завет о приоритете грядущего не исполнен. Подобно герою элегии он поглощен ушедшим: «Пусть будущего нет, <…> Но не забыто все, что грезилось и было» [Брюсов 1897, 44]. Его «предсмертные стихи, звучащие уныло» приобретают подобный характер, так как жаль несозданных «провидений искусства» [Брюсов 1897, 44]. Он страдает, что предпочел земное высшему миру. Субъекта настигает смерть: «Кончено! Я побежден» [Брюсов 1897, 46]. Жизни – весне – на смену приходит осень – умирание: «погас весенний сон, // Листья осенние, вейтесь!» [Брюсов 1897, 46]. Он побывал в загробном мире, им вспоминаются «поля асфоделий» и «зале-тейские» берега [Брюсов 1897, 47], находящиеся в Аиде. Однако ему дан шанс на перерождение: «Я вернулся на яркую землю» [Брюсов 1897, 47].
В последнем разделе «В борьбе (Прошлое). Из бездны ужасов и слез, // По ступеням безвестной цели, // Я восхожу к дыханью роз // И бледно-палевых камелий» [Брюсов 1897, 49] субъект балансирует на грани. Последнее испытание, – отречение от страстей и следование пути творца. Мир поэта вновь ассоциируется с весной: «Поют осмеянные сны, // О чем-то чистом и высоком, // Как дуновение весны» [Брюсов 1897, 53]. В реальности субъект одинок, и если природа оживает как «символ возрождения», то душа не воспринимает «обновляющую мечту» [Брюсов 1897, 55]. Во сне он приближается к иному, но не в силах вспомнить заветы, возвращаясь «к позору искушений» [Брюсов 1897, 56]. «Художника-волхва» он не слышит, зов «умирает» [Брюсов 1897,
-
56] . Он мечется между предчувствием обновления и «сладострастными желаньями» [Брюсов 1897, 56], то «отдает сердце» Господу (творцу художественного мира), то мечтает перед смертью, «не поверив мечтам» (поэзии), «припасть поцелуем // К дорогим побледневшим устам» [Брюсов 1897, 60]. Повторяется мотив потери возлюбленной – бледной «женской тени» [Брюсов 1897, 59]. Субъекту необходимо отказаться от нее и сосредоточиться на грядущем. В финале удается одержать победу: страсти «погибшие», сила поэта обретена им: «И тайные знаки // Свершая жезлом, // Стою я во мраке // Бесстрастным волхвом» [Брюсов 1897, 61]. Внутри границ поэтического мира он защищен от внешнего: «Меня охраняет // Магический круг» [Брюсов 1897, 61]. Выбор круга объясним, он часто использовался для создания апотропеических границ [Левкиевская 2002, 28], что нашло отражение в литературе (например, «Вий» Н.В. Гоголя). Но есть и другие значения. В «диаволическом мире круговое движение ассоциируется с блужданием» [Ханзен-Лёве 2003, 73], невозможностью вырваться за границы. Субъекту Брюсова это удается. Круг становится символом вечности поэтического мира. О совпадении начала и конца в круге писал еще Гераклит, и это суждение «по своему смыслу выходит далеко за пределы геометрии, давая символическое учение о круговороте бытия вообще» [Лосев 2000, 400].
Книга стихов «Me eum esse» – художественное целое с лирическим сюжетом и субъектом, повторяющимися героями (поэт-наставник, возлюбленная), образами и мотивами. Брюсов задает тон способу циклизации, который развивают и другие символисты, реализуя метафору «мир – книга» [Дарвин 2018, 187]. Сюжет выстраивается через тезис, что художник –«Бог своего внутреннего мира, в сфере мира внешнего, как земного так и неземного, он оказывается лишь “рабом”» [Ханзен-Лёве 1999, 55]. Истинными не являются ни realia, ни realiora, но лишь искусство. Путь подчиненного страстям субъекта – борьба в достижении высшей поэтической реальности. На оппозицию миров повлияла традиция элегии. Ее черты трансформируются, но сохраняются следы «внутренней меры» [Тамарченко 2004, 370] жанра. Соотнесение возрождения и умирания с временами года сочетается с осознанием конечности бытия, невозвратности прошлого. Течение времени в действительности отличается от инобытийного. Если в элегии ему противостоял обновляющийся мир природы, то здесь – мир искусства. Переосмысляется невозможность обретения возрождения. Творчество – сила, способная подарить бессмертие.
Список литературы Жанровые и мотивно-тематические аспекты циклизации книги стихов “Me eum esse” В.Я. Брюсова
- Бахтин М.М. Вячеслав Иванов // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 318-328.
- Белый А. Золото в лазури. М.: Скорпион, 1904. 260 с.
- Белый А. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. М.: Республика, 1995. 510 с.
- Белый А., Блок А. Переписка. 1903-1919. М.: Прогресс-Плеяда, 2001. 608 с.
- Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 1. М.: Наука, 1997. 642 с.
- Брюсов В.Я. Me eum esse. М., 1897. 62 с.
- Брюсов В.Я. Urbi et Orbi. Стихи 1900-1903 гг. М.: Скорпион, 1903. 190 с.
- Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. 240 с.
- Гельфонд М.М. «Пярнуские элегии» Давида Самойлова: поэтика жанра и цикла // Новый филологический вестник. 2008. № 2. С. 122-128.
- Греческо-русский словарь Нового завета / Пер. и ред. В.Н. Кузнецовой. М.: Российское библейское общество, 2012. 238 с.
- Дарвин М.Н. Поэтический мир лирического цикла: автор и текст. М.: РГГУ, 2018. 288 с.
- Кихней Л.Г., Ламзина А.В. Стихотворный диалог В. Брюсова и А. Белого: между текстом и жизнью // Язык и культура. 2022. № 60. С. 38-56.
- Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М.: Индрик, 2002. 334 с.
- Лосев А.Ф. История антично эстетики. Ранняя классика. М.: АСТ, 2000. 621 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
- Магомедова Д.М. А. Блок. «Нечаянная Радость». Источники заглавия и структура сборника // А. Блок и основные тенденции развития литературы начала ХХ века. Блоковский сборник. VII. Тарту, 1986. С. 48-61.
- Магомедова Д.М. Идиллический мир в жанрах послания и элегии // Болдин-ские чтения. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 1999. С. 5-12.
- Магомедова Д.М. О жанровом принципе циклизации книги стихов на рубеже XIX-XX веков // Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. Материалы международной научной конференции. М.: РГГУ, 2003. С. 183-196.
- Малкина В.Я. Лирический сюжет // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. С. 114115.
- Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. M.: Аспект Пресс, 1995. 384 с.
- Тамарченко Н.Д. Жанровый «канон» и «внутренняя мера» жанра // Теория литературы: в 2 т. Т. 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Издательский центр Академия, 2004. С. 368-372.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифо-поэтический символизм. Космическая символика. СПб.: Академический проект, 2003. 816 с.
- Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999. 512 с.