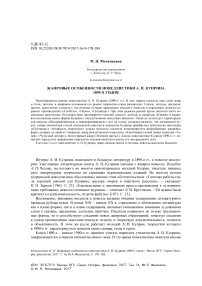Жанровые особенности новеллистики А. И. Куприна 1890-х годов
Автор: Мотамедния Масуме Насроллах
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается ранняя новеллистика А. И. Куприна (1890-х гг.). В этот период писатель ищет свой жанр и стиль, поэтому в жанровом отношении его раннее творчество очень разнородно. Сказки, легенды, предания, притчи, трагические и вместе с тем нелепые истории привлекают молодого писателя и определяют сюжеты его ранних произведений («Аль-Исса», «Палач», «Путаница»). При этом развязка ранней прозы писателя часто неожиданно трагическая. Последнее явно противоречит канонам сказки и легенды и, напротив, сближает в жанровом отношении малые формы Куприна с анекдотичными новеллами Боккаччо. Писатель использует характерную для новеллы обескураживающую и переворачивающую с ног на голову концовку-развязку, так называемый пуант, однако комическая стихия итальянской новеллы в творчестве Куприна приобретает трагические интонации («Путаница»). Активность творческого поиска молодого писателя иллюстрируется разнообразием жанровых форм, которые он пробует: например, жанр рождественского рассказа, «благотворительный жанр» (новеллы «Тапер», «Чудесный доктор»), эпистолярный жанр («Осенние цветы»). Анализ новеллистики Куприна 1890-х гг. позволяет определить направления творческих поисков писателя в начале его литературного пути.
Новеллистика а. и. куприна, жанр, каноны сказки и легенды, новеллы-анекдоты боккаччо
Короткий адрес: https://sciup.org/147219849
IDR: 147219849 | УДК: 82-32 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-178-184
Текст научной статьи Жанровые особенности новеллистики А. И. Куприна 1890-х годов
Интерес А. И. Куприна, вошедшего в большую литературу в 1890-е гг., к новелле неоспорим. Уже первые литературные опыты А. И. Куприна связаны с жанром новеллы. Подобно А. П. Чехову, на которого во многом ориентировался молодой Куприн, писатель начинал свое литературное творчество на страницах периодических изданий. Во многом истоки купринской новеллистики обусловлены именно этим обстоятельством. «Газетная работа стала хорошей школой для Куприна, мастера очерка и короткого рассказа», – указывает П. Н. Берков [1965. С. 23]. «Еженедельная и ежедневная пресса предъявляла к художнику иные требования, нежели столичные журналы, – отмечает Л. В. Крутикова. – Ей нужны были краткость и развлекательность, острота фабулы» [1971. С. 13].
Несомненно, внимание писателя к новелле вызвано общими тенденциями литературного процесса рубежа веков. В конце XIX – начале XX в. стремление к обновлению литературы как в плане формы, так и в плане содержания, вызывает повышенное внимание художников слова к сказкам, преданиям, легендам, притчам. Писатели осваивают не только традиционные формы, но и способствуют созданию новых жанровых образований, зачастую соединяя в одном произведении новеллистическую остроту и очерковую документальность, точность и объективность. В этом же русле работает молодой А. И. Куприн, творчество которого в 1890-е гг. характеризуется поиском своего жанра, темы и героя.
Конец 1890-х – начало 1900-х гг. принято считать периодом ученичества А. И. Куприна, завершающегося в первом пятилетии нового века. В это время новеллистика писателя весьма
Мотамедния М . Н. Жанровые особенности новеллистики A. И. Куприна 1890-х годов // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 178–184.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология
разнородна. Начав свой путь в литературе с малой эпической формы, писатель творчески преобразует ее, синтезируя элементы различных жанровых форм в одном произведении.
Одной из ярких новелл 1890-х гг. является «Аль-Исса» (1894), которая в жанровом отношении может быть определена как новелла-легенда. Это определение («легенда») предпослано произведению самим автором в качестве подзаголовка. «Если в сказке, – рассуждает о жанре легенды О. И. Федотов, – фантастический элемент воспринимается как условный вымысел, то в преданиях и легендах <…> он составляет саму суть их создания и функционирования и совершенно искренне переживается как реальность, сверхъестественная, удивительная, но все-таки реальность» [2003. С. 151]. В новелле «Аль-Исса» описываемые события изначально мыслятся повествователем как действительно происходившие. Не случаен в этом отношении акцент на времени и месте происшествия уже в первом предложении: «За несколько веков до рождества Христова в самом центре Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ» [Куприн, 1964. С. 160] 1. Неслучайна и придающая достоверность повествованию ссылка на авторитетное мнение – указание на источник тех знаний, которые передает читателю автор: «Имя его изгладилось в истории, даже священные Веды не упоминают о нем ни одной строчкой», однако, и это важно для повествователя, «старые факиры, ревностные хранители преданий» знают об этом народе (с. 160).
Герой новеллы – личность исключительная. Знатный род, смелость и красота отличают Аль-Иссу, про которого сообщается: «Аль-Исса был сыном знатного раджи. Пятнадцати лет он уже превосходил всех молодых людей смелостью, силой и красотой. Самая знатная и гордая красавица Индии сочла бы счастием назваться его женой. Но Аль-Исса посвятил себя богине смерти» (с. 161).
В соответствии с фольклорным каноном герой должен преодолеть искушение и трижды пройти испытания, чтобы обрести право стать мужем богини (мотив инициации и обретения чудесной жены).
Упоминание буддистских священных книг и общий восточный колорит произведения позволяют соотнести героя купринской легенды прежде всего с Шакьямуни, героем восточных легенд о Будде, который, как и Аль-Исса, покинул дом и оставил все блага, дарованные ему знатным происхождением, ради аскетической жизни: «И Аль-Исса выдержал тяжелый искус. Слезы матери и сестер не тронули его, когда он уходил из своего роскошного дворца. При встречах с женщинами он опускал глаза и далеко обходил лучших красавиц <…> Никто никогда не видал его смеющимся или преданным праздному разговору <…> Если не было войны, он проводил время на охоте за дикими кабанами и тиграми. Вода из лесного ручья и кусок хлеба служили ему пищей, седло – изголовьем» (с. 161).
А. И. Куприн трансформирует жанр восточной легенды, меняет художественный акцент в разработке легендарного мотива о святом и его подвижничестве. Мифологический мотив обретения чудесной жены лишается необходимой для мифа трактовки брака с богиней как награды герою. Светлой целью купринского героя становится любовь столь сильная, что преградой ей не может послужить даже смерть. (Ночь с таинственной и прекрасной богиней смерти предвещает смерть героя на рассвете.) Аль-Исса описывается в соответствии с рыцарской книжной традицией, согласно которой герой готовится совершить подвиг во имя прекрасной дамы. Исключительная храбрость, мужество, красота героя позволяют говорить о романтической концепции человека, утверждаемой писателем в этой новелле.
Разрабатывая тему святого подвижничества во имя любви, писатель следует жанровой модели новеллы: динамичный сюжет развивается стремительно и завершается на пике кульминации. Развязка потрясает читателя своей неожиданностью (пуант). Прекрасная богиня смерти оказывается «дряхлой старухой, сморщенной, беззубой, со слезящимися глазами и потухшим взором» (с. 163). Подвиг героя оказывается бессмысленным, легенда о неземной красоте богини разрушается.
Именно структура новеллы (необычность фабулы, динамичность сюжета, неожиданность развязки) позволяет А. И. Куприну так впечатляюще остро осмыслить вечную проблему любви и смерти. Романтика подвига обессмысливается в новелле; с другой стороны, сильная личность, несомненно, симпатична автору.
Интерес к фольклорным формам и стремление к творческому поиску обусловливает создание другого гибридного жанра – исторической новеллы. Его примером служит новелла «Палач» (1899), близкая по форме к средневековому преданию и в то же время отличная от него точностью исторических деталей, которые привносит в произведение А. И. Куприн. «Предание – легендарное сказание, основанное на воспоминании о подлинных исторических событиях, преображенных народной фантазией» [Федотов, 2003. С. 151].
В «Палаче» время и пространство конкретизированы, сюжет основан на исторических событиях. Анализируя новеллу, С. Ташлыков справедливо указывает: «Куприн точен в описании городского пейзажа, исторических событий, лишь в одном месте допущена неточность: шпага, которой вооружен король-изгнанник, появилась как оружие в Западной Европе намного позже – в XVI веке» [Ташлыков, 1998. С. 64]. Героями новеллы выступают реальные исторические лица: Генрих Второй, Лев-Анна, герцог Швабский, электор Саксонский, Карл Эйзенман. В основу произведения положено описание политической вражды между гвельфами и гиббелинами в XII–XV вв., и это позволяет согласиться с исследователем, который выявляет в произведении черты исторической миниатюры и новеллы [Там же. С. 64]. Сам А. И. Куприн при первой публикации произведения в январе 1900 г. предпослал ему подзаголовок «Средневековая быль». Многообразие жанровых определений свидетельствует об интенсивном поиске художественной формы.
Новеллистическая необычность фабулы определенна: палач, носитель самой презираемой профессии, приобретает почетное звание рыцаря, вассал получает особое право сидеть в присутствии своего сеньора. Необычность развязки видится в другом. Никто из жителей города не желает принять усталого путника, следуя старому обычаю: «Приди завтра, и я накормлю тебя хоть жареным гусем и напою имбирным пивом, – говорит титулованному путнику добрая старуха. – А сегодня ты принесешь в мой дом все несчастья, которые преследуют тебя» (с. 375–376). Резкий поворот в судьбе палача, принявшего в свой дом путника, напротив, несет счастливые перемены: он получает рыцарское достоинство. Исполняется и народное поверье: бывший палач погибает геройской смертью, «сражаясь на стенах Везен-берга за своего герцога», и род его прекращается.
Строгость жанровой структуры новеллы требует резкого перелома в развитии действия, яркости кульминации (возведение в рыцарское достоинство), неожиданности развязки (гибель героя, исполнение предсказанного народным поверьем). Все это мы наблюдаем в новелле «Палач».
Интересной в жанровом отношении представляется эпистолярная новелла писателя «Путаница», к которой А. И. Куприн обращался трижды на протяжении десяти лет (1897–1907), что подтверждает значительность эволюции жанрового мышления молодого литератора.
«Путаница» – острофабульное произведение со всеми присущими новелле признаками. В основу новеллы положено анекдотическое происшествие: здоровый человек попадает в психиатрическую клинику в результате, на первый взгляд, невинной шутки. Однако розыгрыш оказывается очень жестоким: герой новеллы действительно сходит с ума, прожив два года в психиатрической палате. В данном случае А. И. Куприн следует традиции итальянской новеллы Дж. Боккаччо с его поэтикой случайного. Композиционная структура «новеллы с обрамлением» тоже близка традициям новеллы итальянского Возрождения.
Вместе с тем автор привносит иную интонацию в свое произведение. Если в новеллах Дж. Боккаччо безраздельно господствует стихия комического, то в «Путанице» А. И. Куприна властвует трагиироническая интонация. Показательно название новеллы, краткое, но исполненное глубокого смысла. Первоначально новелла называлась «Недоразумение». Затем А. И. Куприн создает «Ошибку» на ту же тему, но впоследствии возвращается к «Недоразумению» и, исправляя его, изменяет и заглавие. По-видимому, заглавие «Путаница» более ярко выражало мысль писателя. В его интерпретации жизнь современного человека мыслится как трагически жестокая и непредсказуемая путаница , хаотическое единство случайного и закономерного.
Случайно именно Пчеловодову выпадает жребий изобразить сумасшедшего: «Из всех троих я был самый старший, – сообщает герой новеллы, – и мне надлежало быть самым благоразумным; но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и <…> конечно, вытащил узелок из зажатого кулака мясоторговца» (с. 186). Закономерно в мире враждебных друг другу людей, что начальник Пчеловодова из мести и личной неприязни подтверждает сумасшествие своего подчиненного.
Эпистолярная форма, требующая повествования от первого лица (это требование соблюдено в новелле), позволяет передать трагедию во всей ее полноте. Спокойная интонация повествования, лаконичность фраз, а также то, что рассказчик избегает внешней красивости изложения, – все это убеждает читателя в его душевном здоровье. Тем эффектнее развязка новеллы, сильнее ее воздействие на читателя. Диалог доктора и рассказчика подтверждает, что рассказанная история не «мистификация» и не «бред безумного», а жестокая реальность современной жизни.
Изображая современную трагедию, молодой писатель обращается, кроме того, к жанру рождественского рассказа. Эта жанровая форма актуальна в творчестве А. И. Куприна, который исследует проблему счастливой случайности в человеческой жизни («Чудесный доктор», «Тапер»). Показательно, что «Путаница» была опубликована в один день с новеллой «Чудесный доктор», правда, в разных газетах. Кажется, что А. И. Куприн одновременно «отрабатывает» две жанровые формы: рождественский рассказ о докторе Пирогове и «Путаницу», построенную на переиначивании, переворачивании привычной схемы «благотворительного жанра» [Волков, 1981. С. 85].
В «Путанице» автор дважды акцентирует внимание читателя на том, что трагический розыгрыш произошел в рождественские праздники. Об этом в самом начале сообщает врач-психиатр: «…Мне кажется, никто так оригинально не встречал рождества, как один из моих пациентов в тысяча восемьсот девяносто шестом году…» (с. 183). Затем о времени события упоминает Пчеловодов в своем прошении: «Делать мне больше на заводе было нечего, и вот, в конце рождества, я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе N., в кругу близких родственников» (с. 185). Фольклорная традиция связывает канун Рождества и Нового года с разгулом нечистой силы; христианская традиция – с чудом божественного рождения, которое одухотворяет грешную землю. В купринской интерпретации чудо немыслимо в современном безжалостном мире. Людская беспечность (спутники Пчеловодова) и жестокость человеческой мстительности (директор сталелитейного завода, начальник Пчеловодова) оказываются страшнее неограниченной власти темных сил, любого колдовства и чародейства.
Эпистолярную форму А. И. Куприн также использует в новелле «Осенние цветы» (1899), которую мы формально обозначаем как эпистолярную новеллу, а в содержательном плане – как новеллу психологическую. Жанр психологической новеллы в русской литературе был освоен А. П. Чеховым, который, по замечанию Е. М. Мелетинского, заменяет традиционные новеллистические мотивы «глубинным, хотя и ненавязчивым проникновением в быт и психологию, что формально как бы ослабляет “новеллистичность” <…> Чехов одновременно возрождает новеллу и трансформирует ее в антиновеллу» [Мелетинский, 1990. С. 259]. Эпистолярная форма и рассказ от первого лица позволяют придать повествованию психологическую достоверность, ярче передать остроту чувств, переживаемых героиней.
В этой новелле писатель демонстрирует интерес к мелодраме с ее любовными трагедиями. «Мой милый, сердитый друг! Я потому пишу – сердитый, что заранее воображаю себе: сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас…» (с. 341). Новеллистический поворот в развитии действия смягчен. Композиционно новелла построена на антитезе, которая реализуется на пространственно-временном и символическом уровнях: «громадный зверинец, который называется петербургским обществом», противопоставлен морскому южному городу, «милое, сладкое» прошлое – «тусклой и равнодушной жизни», которую обречена вести героиня.
Антитеза подчеркивает контрастность тех чувств, которые жаждала пережить героиня, и того, с чем она столкнулась, пытаясь возродить любовь: «Мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и – что всего ужаснее – постоянное, ревнивое сравнение прошлого с настоящим» (с. 349).
Символический план новеллы задан уже заглавием произведения – «Осенние цветы». Впоследствии он реализуется на уровне цитации: «Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина: «Цветы осенние милей роскошных первенцев полей… Так иногда разлуки час жи- вее самого свиданья?..» (с. 349). Заглавие произведения созвучно заглавию одной из ранних чеховских новелл – «Цветы запоздалые».
Цветы в новелле становятся символом любви. «Темно-карминная и чайная» розы символизируют яркость чувств и счастливую непосредственность истинной любви, той «пленительной волшебной сказки», которую пережили герои шесть лет назад. Напротив, их напряженность, неловкость, искусственно-оживленный тон бесед связаны с символическим образом осенних цветов – астр и георгинов, с их «острым травяным», «меланхолическим, чисто осенним запахом», который вызывает тоску и сожаление о невозвратимом прошлом.
Любовь нельзя вернуть, но чувства способны жить в нежной, тихой поэтической покорной грусти воображения – таким представляется итог произведения.
В ранний период литературной деятельности А. И. Куприн демонстрирует стремление к творческому поиску и эксперименту. Писатель напряженно ищет свой жанр, свою тему, своего героя. Его творчество 1890-х гг. отмечено тяготением к созданию пограничных жанровых форм. Следуя тенденции времени, А. И. Куприн обращается к фольклорным источникам, пробует себя в мелодраматическом жанре; традиции классической русской литературы реализуются в обращении к жанру психологической новеллы, мастером которой признан А. П. Чехов. А. И. Куприн стремится синтезировать структурные элементы разных жанров в пределах одного художественного произведения.
На тематике и проблематике многих новелл А. И. Куприна 1890-х гг. лежит печать романтической эстетики. Показателен в этом смысле выбор героев, отмеченных исключительностью своего характера («Аль-Исса») или общественного положения («Палач»).
Влияние романтизма выразилось во внимании писателя к жанру восточного сказания, легенды, предания, в интересе к эпохе Средневековья и Древнего Востока.
Романтическую природу имеет конфликт купринской новеллистики 1890-х гг.: человек и судьба. Писатель обращается к теме власти слепого случая, его рокового влияния на жизнь человека («Путаница»).
Позже А. И. Куприн откажется от «восточной» стилизации, от экзотических героев. Вместе с тем анализ его новеллистики 1890-х гг. позволяет понять характер поисков писателя в начале творческого пути и его дальнейшую творческую эволюцию.
Список литературы Жанровые особенности новеллистики А. И. Куприна 1890-х годов
- Берков П. Н. Александр Иванович Куприн. Критико-биографический очерк. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 191 с.
- Волков А. А. А. И. Куприн. М.: Худож. лит., 1981. 360 с.
- Крутикова Л. В. А. И. Куприн. Л.: Просвещение, 1971. 119 с.
- Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. 278 с.
- Ташлыков С. А. Новелла-легенда в творчестве А. И. Куприна // Современные проблемы преподавания русской и зарубежной литературы: Сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 1998. С. 61-76.
- Федотов О. И. Основы теории литературы: В 2 ч. М.: Владос, 2003. Ч. 1: Литературное творчество и литературное произведение. 274 с.
- Куприн А. И. Собр. соч.: В 9 т. М.: Правда, 1964. Т. 1. 963 с.