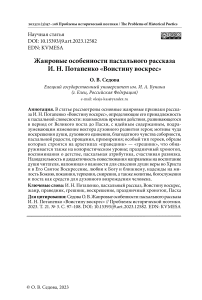Жанровые особенности пасхального рассказа И. Н. Потапенко «Воистину воскрес»
Автор: Седова О.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные жанровые признаки рассказа И. Н. Потапенко «Воистину воскрес», определяющие его принадлежность к пасхальной словесности: взаимосвязь времени действия, развивающегося в период от Великого поста до Пасхи, с идейным содержанием, подразумевающим изменение вектора духовного развития героя; мотивы чуда воскрешения души, духовного единения, благодатного чувства соборности, пасхальной радости, прощения, примирения; особый тип героев, образы которых строятся на архетипах «праведник» - «грешник», что обнаруживается также на колористическом уровне; праздничный хронотоп, воспоминания о детстве, пасхальная атрибутика, счастливая развязка. Назидательность и дидактичность повествования направлены на воспитание души читателя, напоминая о важности для спасения души веры во Христа и в Его Святое Воскресение, любви к Богу и ближнему, надежды на милость Божию, покаяния, терпения, смирения, а также молитвы, богослужения и поста как средств для духовного возрождения человека.
И. н. потапенко, пасхальный рассказ, воистину воскрес, жанр, праведник, грешник, воскрешение, праздничный хронотоп, пасха
Короткий адрес: https://sciup.org/147241449
IDR: 147241449 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12582
Текст научной статьи Жанровые особенности пасхального рассказа И. Н. Потапенко «Воистину воскрес»
Ж анр пасхального рассказа, чье «славное прошлое в русской литературе» [Захаров: 260] сменилось периодом забвения, в последнее время вызывает все больший интерес у литературоведов.
Опираясь на работы исследователей этого жанра ([Баран], [Захаров], [Захарова], [Есаулов], [Кошелев], [Тарасов], [Ранева-Иванова], [Калениченко], [Николаева], [Харитонова], [Козина, 2010, 2019], [Дмитренко], [Нестерова], [Урюпин], [Анисимов], [Козлова, 2021, 2022], [Шестернёва], [Жиркова]), мы рассмотрим основные жанровые признаки пасхального рассказа И. Н. Потапенко «Воистину воскрес», впервые опубликованного в 1903 г. в иллюстрированном журнале «Нива», в котором «его сочинения, приуроченные к Пасхе, печатались практически ежегодно» [Седова: 178].
В рассказе И. Н. Потапенко находят отражение такие важные признаки пасхального рассказа, как «приуроченность времени действия к Пасхальному циклу праздников и "душеспасительное" содержание» [Захаров: 256], подразумевающее «преображение жизни, уничтожение в себе "ветхого человека", очищение от грехов, прощение обидчика» [Козина, 2019: 21]. Время действия рассказа, раскрывающего духовное перерождение героя, охватывает период от страстного понедельника до ночной пасхальной литургии. В повествование включен комплекс праздничной атрибутики: церковь, зажженные свечи, пасхальная заутреня, пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых», христосование, кулич, разговение.
В произведении представлен характерный для пасхального жанра особый тип героя: праведный человек и его антагонист. Героиня рассказа Люлюся, чье поведение и сознание ориентировано на евангельские заповеди, противопоставляется Максу Стро-милову, образ которого восходит к архетипу грешника.
С первых строк рассказа читатель погружается в великопостную атмосферу, царящую в институте, где учится Люлюся. О строгом соблюдении поста в этом женском учебном заведении свидетельствуют описания набожных институтских классных дам, лица которых похудели, «вытянулись» и сделались «постными». В институтской столовой подавали постный винегрет к завтраку. На всем в заведении лежала печать уныния и невыразимой скуки. На страстную неделю «все теперь вдруг стало грехом»1: запрещалось смеяться и прыгать, «прекратилось даже то не особенно благозвучное бренчание на рояле, которое называлось уроками музыки» (261). Кроме того, «строгое начальство ни под каким видом не отпускало воспитанниц старшего класса домой» (262) на праздники. Однако Люлюся, как и все институтки, примирилась бы с этим, если бы не полученная от брата Андрея весть о том, что на Пасху он едет домой в деревню вместе с Максом Стромиловым — другом детства, которого она не видела несколько лет. С этого момента мысль о празднике в стенах института стала ей невыносимой, хотя еще за несколько дней до этого известия она вместе с другими воспитанницами мечтала о пасхальной ночи в институтской церкви, о разговении и маленьком бале, на котором будут присутствовать кадеты.
Люлюсе очень хотелось увидеть Стромилова, с которым ее связывало «смутное воспоминание о густой сиреневой аллее в деревенском саду, о береге узенькой тихой речки, о детской привязанности, может быть, ни на чем не основанной, но такой нежной, сладкой и таинственной» (262). Благодаря романтической двоюродной тете Варе, убедившей родителей девочки в ее плохом самочувствии и необходимости провести предстоявшие праздники в кругу семьи, уже в страстную среду Люлюся, покинувшая стены института, оказалась в родном доме, где встретилась со Стромиловым.
Из описания порядков, царящих в институте, становится понятно, что внешнее благочестие и показная набожность, особенно во время Великого поста, были чрезвычайно важны, однако и в домашней непринужденной обстановке «время и обстоятельства требовали строгих лиц и благочестивых размышлений» (262). В рассказе подчеркивается, что, хотя очаровательная и жизнерадостная «Люлюся верила в Бога и боялась грешить, все-таки ей было невыносимо скучно» (261) в унылых стенах института с насаждаемой формальной религиозностью и об-рядоверием. Дома же ей не составляло труда говеть вместе с родителями, проводить каждое утро и вечер страстной седмицы в церкви. Вера в Бога, соблюдение заповедей и православных традиций были неотъемлемыми составляющими ее жизни, приносящими радость, душевный покой и умиротворение.
Макс, являющийся полной противоположностью Люлюси, не признавал православных постов, церковных предписаний и традиций, не посещал богослужений. Однако, как становится известно из повествования, свои безбожные «суровые идеи он приобрел недавно, вместе с студенческим мундиром» (266), почерпнул из вольнодумных книг, помогающих «бороться с предрассудками» (263).
Различие героев обнаруживается также на цветовом уровне. Основная колористическая характеристика Люлюси — белый цвет: «Люлюся в белом платье, — такая радостная, такая сияющая» (266). В церковной символике белый цвет «есть символ Божественного нетварного света»2, чистоты, святости. Ангелы и «праведники, победившие в земных искушениях и сохранившие слово Божие, в небесной жизни облечены в белые одежды»3. Кроме белого цвета в описаниях Люлюси присутствуют золотой и синий цвета. Неоднократно упоминаются в рассказе ее «золотые локоны» и «синие глаза». «Золото благодаря своему солнечному блеску является в церковной символике таким же знаком Божественного света, как и белый цвет»4. Синий (голубой) — цвет Богоматери, символизирующий «Ее небесную чистоту и непорочность»5. Эти цвета в изображениях героини подчеркивают ее безгрешность, чистоту, непорочность, устремленность к Горнему миру.
Колористическая доминанта Макса, чье лицо «печально, как у падшего ангела» (266), — черный цвет. Настойчиво в его описаниях повторяется информация о его черных волосах и усах: «черная низко-остриженная голова» (262), «черные густые волосы» (263), «небольшие черные усики» (263), «черноголовый Макс» (263).
Противоположный белому черный цвет с древности в сознании русских людей имел два символических значения: с одной стороны, «принадлежащий темным силам», «причастный сонмищу бесов» [Бахилина: 29], смерти, с другой — был символом смирения, что отразилось в монашеской одежде. В портретах Макса черный цвет имеет отрицательные коннотации: отсутствие света, траур, демоническое начало. Доминирование черного цвета во внешности Макса, в которой «было что-то гордое и слегка даже презрительное» (263), подчеркивает пагубность безбожных, вольнодумных мыслей, скепсиса в отношении православных обычаев, актуализирует его принадлежность к архетипу гре шника.
Однако «принципы развития сюжета: пасхальное ожидание, вера в чудо Воскресения» [Козина, 2019: 21] — подразумевают нравственное исправление, духовное перерождение грешника. Это происходит и в рассказе Потапенко: Люлюся, осознав, насколько изменились взгляды Макса, чувствует разочарование и досаду — разочарование оттого, что вместо ожидаемой «тихой поэзии детских лет» встретила что-то грубое и резкое, и досаду на то, что ради этого грубого человека она потратила столько усилий, обманным образом примчавшись сюда из института. В сердце девушки живут дорогие ей детские воспоминания о совсем другом Максе — отзывчивом, благочестивом, верующем. Она расстроена его нынешним высокомерным отношением к тому, что ей дорого: к вере, православным обычаям. «Скучный, грубый и отвратительный» (266), — думает о нем девушка, покидая место встречи и оставляя Макса в одиночестве.
Ее уход, в котором чувствовалось категорическое неприятие безбожия, возымел свое действие. Ему вспомнилось их совместно проведенное детство, «долгие часы на <…> холмике, меж двух тополей, и венки из маргариток, и чудная головка с золотистыми локонами, и прелестное личико девочки с синими глазками, смотревшими на него так доверчиво» (266). Стромилова охватило глубокое чувство потери. Он смутно осознавал, что вместе с уходом подруги из его жизни исчезает что-то «теплое, милое и родное», живое и настоящее, составляющее основу жизни, связанное непосредственно с верой в Бога. Юноша не находил себе покоя несколько дней. Его душевные переживания достигли своего апогея в пасхальную ночь, когда помещичий дом опустел, так как хозяева уехали в церковь, где собралась вся деревня. Оставшись один, Стромилов «бешено бегал по аллеям сада, подчиняясь какому-то странному чувству» (266). Его метания вылились в решение пойти в церковь. На пасхальной ночной литургии была необыкновенная умиротворенная атмосфера:
«В церкви было светло от множества зажженных свечей. Деревенские певчие громкими голосами возглашали торжественный тропарь о том, что воскрес Христос и принес спасение миру» (266).
Можно говорить о характерном для пасхального рассказа праздничном хронотопе. В рассказе два временных пласта: настоящее, в котором повзрослевший Макс становится вольнодумцем, и прошлое, представленное в воспоминаниях о детстве, когда Макс разделял все «предрассудки» верующей Люлюси. «Помимо календарного времени, наличествуют два мира: мир реальный, земной, а также мир горний» [Козлова, 2022: 170], которого герой должен достичь в результате нравственного перерождения. При этом особое значение имеет православный храм, символизирующий «Царство Божие в единстве трех его областей: Божественного, небесного и земного»6. Являясь «ковчегом спасения для верующих людей»7, церковь становится тем местом, где человек «восстанавливает свой Божественный образ через приобщение Христу»8. Именно в церкви происходит кульминация рассказа: духовное единение Люлюси и Макса во время пасхальной литургии, их невидимая молитвенная связь с Богом в духе любви и истины. Об этом духовном единстве свидетельствует описание героев и обстановки действия: Люлюся «не сводила глаз с Царских врат, которые были растворены. Казалось, она видела там как бы объясненную тайну, и на лице ее сияла радость» (266). Смотрящий в ту же сторону Стромилов почувствовал, «будто взгляды их встретились, — не здесь, а там, куда они были направлены с упованием» (266). Важная деталь — Царские врата, которые символизируют собой врата Рая, Царствия небесного. Их открытие на Пасху является символом того, что Воскресением Христовым врата Царствия небесного открыты для всех. Внутренним взором Макс словно проник в Горний мир и познал ту же тайну воскресшего Господа, которой была сопричастна Люлюся. Примечательно, что еще в детстве зародившаяся «тайна смутного сближения» (266) их душ, о которой вспоминает Макс, на пасхальной литургии переросла в соборное чувство благодатной взаимной любви, братство во Христе. Пасхальная радость, которую испытал Макс, преображает его. Осененная божественной Благодатью, душа героя воскресает. Свое состояние духовного возрождения юноша выражает словами: «В моей душе воскрес Христос» (266). Подобное признание находит живой отклик в сердце девушки, которая с радостью прощает своего друга. Ожидаемая счастливая развязка (примирение любящих друг друга героев) — еще один важный признак пасхального рассказа.
Таким образом, рассказ И. Н. Потапенко «Воистину воскрес» является классическим пасхальным рассказом с его основными жанровыми признаками: календарная приуроченность, идейное содержание, подразумевающее изменение вектора духовного развития героя. Определяющую роль в принадлежности рассказа к пасхальному жанру играет комплекс мотивов («чудо воскрешения души», «духовное единение», «благодатное чувство соборности», «пасхальная радость», «примирение»), наличие героев-антагонистов, строящихся на архетипах «праведник» — «грешник», что обнаруживается также на уровне цвета; праздничный хронотоп, воспоминания о детстве, пасхальная атрибутика, счастливая развязка. Неизбежная назидательность повествования направлена на воспитание души читателя.
Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1676989362.pdf (accessed on May 14, 2023). DOI: 10.15393/j9.art.2023.11722. EDN: JKSIIJ (In Russ.)
Список литературы Жанровые особенности пасхального рассказа И. Н. Потапенко «Воистину воскрес»
- Анисимов К. В. Пасхальные мотивы в рассказе И. А. Бунина «Легкое дыхание» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. № 6 (44). С. 83–94 [Электронный ресурс]. URL: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1480/files/6(44)_083.pdf (14.05.2023). DOI: 10.17223/19986645/44/6
- Баран X. Дореволюционная праздничная литература и русский модернизм // Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М.: Прогресс: Универс, 1993. С. 284–328.
- Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М.: Наука, 1975. 288 с.
- Дмитренко С. Ф. Рождественские и пасхальные темы в литературном наследии Ю. П. Миролюбова // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. Вып. 13. С. 629–646 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1456475296.pdf (14.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2015.3001
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Жиркова М. А. Пасхальные рассказы А. И. Куприна // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 1. С. 275–295 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1645353828.pdf (14.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2022.10522
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 249–261 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?Id=2403 (14.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2403
- Захарова О. В. «Илья Муромец. Сказка Руси богатырской» В. И. Даля (проблема жанра) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 284–294 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?Id=2506 (14.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2506
- Калениченко О. Н. Судьбы малых жанров в русской литературе конца XIX — начала XX века: святочный и пасхальный рассказы, модернистская новелла. Волгоград: Перемена, 2000. 231 с.
- Козина Т. Н. Пасхальный рассказ в русской словесности // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 6. C. 376–380 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestnik.unn.ru/ru/nomera?Anum=3678 (14.05.2023).
- Козина Т. Н. Эволюция пасхального архетипа. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2019. 80 с.
- Козлова Я. О. Жанр пасхального рассказа: завершение духовно-нравственных исканий А. П. Чехова («Святою ночью», «Студент», «Архиерей») // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2021. Т. 20. № 2. С. 120–127 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/20-2-kozlova (14.05.2023). DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-2-120-127
- Козлова Я. О. Поэтика календарной прозы А. П. Чехова: дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2022. 249 с.
- Кошелев В. А. [Хомяков А. С. Светлое воскресенье: повесть, заимствованная у Диккенса: вступ. ст.] // Москва. 1991. № 4. С. 81–84.
- Нестерова Т. А. Пасхальные рассказы Л. Н. Андреева // VII Кирилло-Мефодиевские чтения «Славянское слово в контексте времени»: 27 мая 2015 года: межвуз. сб. науч.-метод. ст. Ишим: Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (фил.) ТюмГУ, 2015. С. 174–176 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28151739 (14.05.2023).
- Николаева С. Ю. Пасхальный текст в русской литературе XIX века. М.; Ярославль: Литера, 2004. 360 с.
- Ранева-Иванова М. К проблеме теории и метода изучения христианского мотива в прозе А. П. Чехова (о значении пасхального мотива в рассказе «Казак») // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 484–492 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?Id=2552 (14.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2552
- Седова О. В. Пасхальные рассказы И. Н. Потапенко // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 1. С. 162–183 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1676989362.pdf (14.05.2023). DOI: 10.15393/ j9.art.2023.11722. EDN: JKSIIJ
- Тарасов К. Г. Пасхальные мотивы в творчестве В. И. Даля // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 296–302 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?Id=2507 (14.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2507
- Урюпин И. С. «На плотах»: к вопросу о пасхальности «пасхального рассказа» М. Горького // Филология и человек. 2015. № 4. С. 131–135 [Электронный ресурс]. URL: http://journal.asu.ru/pm/issue/view/279/фич%2C%20№4%2C%202015 (14.05.2023).
- Харитонова Е. В. Жанр пасхального рассказа в творчестве Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Дергачевские чтения — 2008: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: проблема жанровых номинаций: мат-лы IX Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 9–11 окт. 2008 г.): в 2 т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. Т. 2. С. 263–267 [Электронный ресурс]. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/22083/1/dc2-2008-42.pdf?Ysclid=lcypgpnaet894292434 (14.05.2023).
- Шестернёва Л. Г. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Поволжский педагогический вестник. 2021. Т. 9. № 4 (33). С. 102–106 [Электронный ресурс]. URL: https://www.pgsga.ru/research/publishing/details/2021/2021_4(33).pdf (14.05.2023).