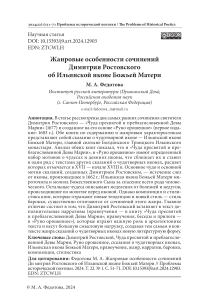Жанровые особенности сочинений Димитрия Ростовского об Ильинской иконе Божьей матери
Автор: Федотова М.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены два самых ранних сочинения святителя Димитрия Ростовского - «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» (1677) и созданное на его основе «Руно орошенное» (первое издание: 1683 г.). Обе книги по содержанию и жанровым характеристикам представляют собой сказание о чудотворной иконе - Ильинской иконе Божьей Матери, главной святыне Болдинского Троицкого Ильинского монастыря. Анализ обеих книг показал, что и «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии», и «Руно орошенное» имеют определенный набор мотивов о чудесах и деяниях иконы, что сближает их и ставит в один ряд с текстами других сказаний о чудотворных иконах, расцвет которых отмечается в XVII - начале XVIII в. Основное чудо и основной мотив сказаний, созданных Димитрием Ростовским, - истечение слез от иконы, произошедшее в 1662 г.: Ильинская икона Божьей Матери мироточила и молила Божественного Сына за спасение всего рода человеческого. Остальные чудеса описывают исцеления от болезней и недугов, происходившие по молитве перед иконой. Однако композиция и стилистика книг, которые отражают новые тенденции и новый стиль - стиль барокко, существенно отличаются от сочинений этого жанра. Главное отличие состоит в том, что Димитрий Ростовский вставляет в текст дополнительные нарративы (нравоучения - в книгу «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии»; нравоучения, беседы и прилоги - в «Руно орошенное»), которые играют важную роль в архитектонике текста и несут большую смысловую нагрузку, создавая тем самым в контексте жанра сказаний о чудотворных иконах новую литературную форму.
Димитрий ростовский, чуда пресвятой и преблагословенной девы марии, руно орошенное, сказания о чудотворных иконах, ильинская икона божьей матери, нравоучение, жанр, нарратив, барокко, композиция, стилистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147243495
IDR: 147243495 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.12903
Текст научной статьи Жанровые особенности сочинений Димитрия Ростовского об Ильинской иконе Божьей матери
С казания о чудотворных иконах — один из самых распространенных нарративов средневековой письменной культуры. Заимствованные из Византии, они были намного более популярны в Древней Руси, чем в южнославянской традиции [Турилов: 513]. Так, «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери» было создано уже в XII столетии, в эпоху княжения Андрея Боголюбского1 [Кучкин, Сумникова: 477], однако расцвет этого жанра древнерусской литературы относится к XVII–XVIII вв., когда, наряду с новыми редакциями или записями новых чудес ранее известных сказаний, появляются тексты о новых святынях, что было связано и с политическими событиями в российской истории, например, восхождением на престол царя Михаила Федоровича Романова — «Сказание о Феодоровской иконе» [Нечаева, 1994] — или с учреждением Сибирской (Тобольской) епархии — «Сказание о явлении Абалацкой иконы Богородицы» [Ромодановская], периодом «стремительного развития в разных областях России региональной литературы» [Пигин: 127] (ср.: [Савельева]). При этом историко-литературный интерес к ним связан с переходом к новому типу повествования — от духовной повести к документальной летописи: сказания о чудотворных иконах становятся не только литературными сочинениями, но и историческими источниками [Словарь книжников: 582, 589].
Эти памятники древнерусской культуры всегда привлекали внимание медиевистов, хотя тексты многих сказаний до сих пор остаются малоизученными и неопубликованными2.
Жанровое определение данного нарратива — сказание — достаточно условно [Кириллин: 61], так как, по наблюдениям исследователей, они читаются в самых разных литературных формах: в составе летописей, повестей, поучений и др.3, однако чаще они представляют собой отдельные повествования (краткие или объемные, лаконичные или развернутые). Но при этом, независимо от типа повествования и его объема, сказания о чудотворных иконах всегда имеют определенный набор мотивов: о явлении иконы, ее деяниях и чудесах и т. д., который позволяет говорить о характерных жанровых признаках и выделять их в конечном итоге в особый жанр4. Кроме того, в древнерусской литературе «основой для выделения жанра, наряду с другими признаками, служили не литературные особенности изложения, а самый предмет, тема, которой было посвящено произведение» [Лихачев: 46]. Если говорить о развитии жанра сказания о чудотворных иконах, то «прорыв» был сделан во второй половине XVII в., и не только в содержательном аспекте, что уже отмечалось выше, но и в стилистическом, а также в композиционной организации повествования: новые веяния и новый стиль — стиль барокко — привели как к новым сюжетам, так и к новым формам: «…с усложнением предания о чудотворной святыне, все эти первичные мотивы и темы, отражая историю её почитания, оказываются вовлечёнными в развёрнутое повествование о ней, развиваются, тесно переплетаясь в последнем друг с другом или же обретая форму сюжетно целостных и самостоятельных вставных или дополнительных разделов» [Кириллин: 62]. Так, в 1659 г. при участии патриарха Никона издается «Рай мысленный»5, в который вошли и русские тексты, прославляющие Иверскую икону Божьей Матери [Белоненко: 94–95]6; к 1658 г. относится первая редакция «Книги о Тихвинской иконе Божьей Матери», созданная иконописцем Тихвинского Успенского монастыря Иродионом Сергеевым и послужившая в 70-е гг. XVII в. источником для Симеона Полоцкого при работе над новой редакцией
Книги [Дилигул: 73] (в нее вошли все известные тексты о чудотворной иконе — Служба, Сказание, Похвальное слово); со второй половины XVII в. широкое распространение получает «Звезда пресветлая» — переводной сборник рассказов о чудесах Богородицы, который в рукописной традиции, в том числе и русской, часто сопровождался сказаниями о чудотворных иконах [Э. П. Р.]. На Украине издаются сочинение Иларио-на (Денисовича) “Parergon cudow swiętych obraza przeczystey Bogorodzice w monastyru Kupiatickim”7, книги Иоанникия Галя-товского «Скарбница потребная…»8 и «Небо новое»9, в этом же ряду стоит сборник проповедей Антония (Радивиловского) «Огородок Марии Богородицы», бóльшая часть которого была посвящена богородичным праздникам10, и др.11, т. е. жанр сказания о чудотворных иконах, расцветший на благодатной почве, безусловно, отражал интеллектуальный, духовный и литературный уровень эпохи барокко: жанровые формы в этот период «разбухают, назревают, готовятся к перестройке, возникают суперформы: художественные произведения стремятся стать энциклопедическими сводами исторического и морально-поэтического знания» [Сазонова: 521].
Совершенно правомерно поставить в этот ряд сочинения Димитрия Ростовского о чудесах Ильинской иконы Божьей Матери — книги «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» и «Руно орошенное» — и показать, что они, с одной стороны, органично вписываются в контекст жанра сказаний о чудотворных иконах, с другой — имеют от них существенные отличия: с сюжетно-композиционной точки зрения это была новая литературная форма, отражающая стилистику барокко.
Книга «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Ма-рии»12 — первое из дошедших до нас и первое изданное сочинение святителя Димитрия, митрополита Ростовского и Ярославского (1651–1709): книга была напечатана в типографии Новгорода-Северского 7 апреля 1677 г. Спустя шесть лет, в 1683 г., в черниговской типографии Лазаря (Барановича) вышло новое издание этой книги в переработанном виде и под новым названием — «Руно орошенное», которое стало пользоваться гораздо большей популярностью, чем «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии»13.
Книга «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» (как и «Руно орошенное»), написанная по повелению архиепископа Лазаря (Барановича), посвящена описанию чудес, произошедших от образа Ильинской Божьей Матери (день празднования — 16 (29) апреля). Икона была написана в 1658 г. иконописцем Геннадием (Дубенским) с Волыни [Адруг: 72] для местного ряда иконостаса Ильинской церкви14 и стала главной святыней Болдинского во имя Святой Троицы и пророка Ильи мужского мон астыря, основанного преподобным Антонием
Печерским во второй половине XI в.15 Монастырь, разоренный во время монголо-татарского нашествия, был восстановлен в 1649 г. старанием ктитора Стефана Пободайлы при игумене Зосиме (Тишевиче), при котором и была написана эта икона и при котором она начала чудотворить. Отметим, что Ильинская икона Божьей Матери не была обретена или явлена и на месте ее обретения или явления не была построена церковь или создан монастырь — этих мотивов большинства сказаний о чудотворных иконах нет в «житии» данной иконы и, соответственно, в книгах Димитрия Ростовского. Ее главное чудо и главный мотив этого сказания, а любое сказание имеет такое главное чудо, и это не обязательно факт ее обретения или явления [Нечаева, 1995: 115–116], — истечение слез, описанное в первом чуде. Оно относится к 1662 г. (икона «плакала» с 16 по 24 апреля): Ильинская икона Божьей Матери, как далее истолковывает в нравоучениях автор книги, «плакала» и молила Божественного Сына за спасение всего рода человеческого (например: «Кто о грѣшных восплачет, прогнѣвав-ших Бога? / Аще не Дѣва, к ним же ея милость многа» — л. 6 об.).
В целом, структура книги святителя Димитрия «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» следующая: гравюра иконы Черниговской Ильинской Божьей Матери; пять цитат из Священного Писания и Отцов Церкви, три из них с ключевым словом «чудеса»; предисловие «До чителника»; вместо заключения — виршевый «Вѣнец дванадесятозвѣзд-ный на похвалу чудотворной пресвятой Богородици иконы в монастыру Свято-Илинъском Чернѣговском плачущой увитый». Кроме первого, указанного выше, и второго чуда (в нем рассказывается об ослеплении татар, вторгнувшихся в том же, 1662 г., в монастырь в целях его ограбления), в центре повествования — описание еще 20 чудес, произошедших по молитве (в основном — чтение акафиста Богородице) перед этим чудотворным образом, т. е. сюжет книги и ее мотивы в должной мере отвечают требованиям жанра сказаний о чудотворных иконах. Здесь читается, например, об исцелении от паралича одной невесты, «именѣм Вѣры, з Мозырского повѣту» (чудо 3, л. 13 об.), или «Анны Пеньска с Брагинщизны» (чудо 4, л. 15); об изгнании бесов из «едной законницы, именем Александра, монастыря святой великомученницы Параскевы в Чернѣговѣ» (чудо 5, л. 17), или из «Ярмолы из села Холявин» (чудо 8, л. 23); об излечении от немоты и слепоты «дщери пана Андрея Рачкевича» (чудо 7, л. 20 об.) и «дщери пана Павла Клевца» (чудо 14, л. 31 об.); об исцелении от оспы Леонтия Полуботка (чудо 13, л. 30) и т. д., то есть книга становится историческим источником, документальной монастырской летописью (думается, что все «участники» чудес — реальные лица), что также является общей характеристикой для жанра сказаний о чудотворных иконах XVII–XVIII вв.
Однако книга Димитрия Ростовского имеет одно существенное композиционное отличие от всех сказаний, в том числе и от книги «Скарбница потребная» Иоанникия (Галятовского), посвященной Елецкой иконе Божьей Матери, — своего основного прототипа [Федотова: 83–85]. После описания каждого чуда в книге Димитрия Ростовского читается особый маркированный нарратив — нравоучение, цель которого, посредством обращения к тексту Священного Писания и авторитету Отцов Церкви, — объяснение причин несчастий и грехов рода человеческого, призыв к добродетельной жизни и прославление благодеяний Богородицы. Так, после первого чуда следует шесть небольших нравоучений, при этом каждое нравоучение начинается со стихотворного двустишия: «Чем, сыне, медлиш в пути прездолгое время? // Мати плачет, вернися, здойми плачу бремя» (л. 5 об.); «Кто о грѣшных восплачет, прогнѣвав-ших Бога? // Аще не Дѣва, к ним же Ея милость многа» (л. 6 об.); «Град наш душевный плѣнен от лютого змѣя, // Плачет Дѣва над градом, як Иеремѣя» (л. 7 об.); «Кого Олимпияды слезы сохраняют, // Нас Мариины от злой смерти увольняют» (л. 8); «Удол плачевный мир сей, плачет в удолѣ // Мария, бы вътѣшила нас в нашей недолѣ» (л. 9); «Егда Мариа слезы источает, // Нас в сие время плакать поучает» (л. 10). Все остальные чудеса сопровождаются одним нравоучением и не имеют силлабических эпиграфов. Выделение первого чуда, окружение его шестью нравоучениями, видимо, обусловлено его значимостью.
Это, как мы уже отмечали, основа сказания, главное чудо, которое произошло от иконы Ильинской Божьей Матери, — мироточение.
Все нравоучения в книге имеют не только четкую внутреннюю структуру, представляя собой небольшие по объему тексты, толкующие чудеса нанизыванием цитат и образов, заимствованных из Священного Писания и сочинений Святых Отцов, но и занимают важное место в композиции книги Димитрия, превращаясь в своего рода эпифонемы каждого чуда, оттеняющие смысл сказанного. Текст Священного Писания толкуется святителем не только исторически, но и аллегорически, каждый пример, заимствованный из Священного Писания, дает образец морального поведения. Приведем пример начала такого нравоучения к чуду 6, в котором рассказывается, как черниговский обыватель Лаврен Опанасенко, будучи безумным, бегал в ночи и хотел утопиться, но у образа Ильинской Божьей Матери, которая «наставляет к разуму божественному всѣх», пришел в себя и излечился:
«Кождый маючий душу розумну человѣк, если ся кохает в грѣхах, а не хочет их перестати, безрозумным стается. Разум бо-вѣм в человѣку есть едина свѣтлая лѣтарня, темности невидѣния отганяючая, а показучаящо що есть свѣт, а що тма, що добро, а що зло, и, завше человѣка за собою, свѣтлым заповѣдей Божиих путем до неба провадячая.
А егда человѣк не слухаючи доброго, внутр освѣчаючого разуму, уклонится до злой своей волѣ, зане прилежит помышление человѣку прилѣжно на злая от юности его 16 , пойде по своим похотем, любо знает ведлуг показуючого ему разуму, же есть рѣчь злая грѣшити, маестат Божий ображати, за то бовѣм вѣчне каран будет 17 , недбает еднак на то, егда прийдет нечестивый в глубину зол, нерадити начнет, на тот час отходит разуму, и як безрозумный в темности глупства шалѣет…» (л. 19 об.).
Введение в текст книги особых нарративов-нравоучений показывает, что уже в первой книге Димитрия Ростовского вырабатывался его неповторимый авторский стиль и метод: собирания, соединения в одном сочинении разных источников с целью назидания и поучения читателя. Так, в первом издании «Руна орошенного» святитель Димитрий пишет:
«То уже и тый, внимательный читателю, презри простых сих нравоучительных бесѣд, иже писахуся не во ино нѣкое тщетное намѣрение, но в самую Богу славу, Богородицы похвалу и душ людских преобрѣтению» 18 .
Безусловно, в сказаниях о чудотворных иконах встречаются отступления нравоучительного характера, и даже достаточно обширные, например, в Сказании о иконе Богоматери Смоленской в ярославском Успенском соборе [Словарь книжников: 585–586]19, но они не маркировались автором сказания, не выделялись в особый нарратив с функциональным содержанием, не занимали четкого, определенного места в структуре повествования. Такой композиции книги со сказаниями о чудотворных иконах мы не встретим ни в древнерусской, в том числе и юго-западной, традиции, ни в польской литературе этого периода, посвященной богородичной теме, на которую святитель Димитрий, безусловно, также мог ориентироваться20.
Поэтика «Руна орошенного», написанного вслед за книгой «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии», еще более оригинальна21 — в частности, в нем описывается уже не 22, а 24 чуда, «собранные в число двадесяти и четырех часов днев-нонощных», что придает тексту бóльшую логичность и завершенность. Количество чудес символически объясняется сравнением с неким болящим клириком, который молился Богородице каждый час в течение суток, за что получил исцеление. Кроме того, новое сочинение, посвященное богородичной теме, искусно дополняется и другими символикоаллегорическими деталями. Название первой книги святителя Димитрия вполне традиционно для художественной системы древнерусской литературы, в данном случае — для жанра сказаний о чудотворных иконах («Чуда пресвятой и пре-благословенной Девы Марии, деючиися от образа Еи чудотворного в монастыру святаго славнаго пророка Илии Чернеговском»): «пространные названия древнерусских литературных произведений» как бы подготавливали «читателя к определенному восприятию произведения в рамках знакомой ему традиции» [Лихачев: 62]. В заглавии «Руна орошенного» появляется уже новый художественный образ: в нем прочитывается образ Девы Марии как одушевленного руна Гедеонова, поясненный уже в беседе к первому чуду; и все 24 чуда от иконы Ильинской Божьей Матери становятся, согласно правилам риторики и барочной поэтики, символической аллегорией: образ руна-Богородицы, обильно орошенный Божьей благодатью, сам орошает верующих по названию 24 чудес — росой любви, защищения, странников утешения, исцеления, устрашения врагов, озарения смыслов, слез избавления, узорешительства, росой силы, мучащей невидимых мучителей, и т. д.
«Руно орошенное» издания 1683 г. начинается посвящением Лазарю (Барановичу) и двумя четкими предисловиями: одно — «К читателю», другое — «На книжку». Предисловие «К читателю» не повторяет предисловие «До чителника» книги «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии», текст написан заново. После предисловий следуют два стихотворения на польском языке за подписью Лазаря (Барановича). В «Руне орошенном» отсутствует «Вѣнец дванадесятозвѣздный на похвалу чудотворной пресвятой Богородици иконы в монастыру Свято-Илинъском Чернѣговском плачущой увитый» — вместо него, начиная с издания 1696 г., читается важный для богословских взглядов святителя Димитрия текст «Догмата пресвятой Богородицы» [Федотова: 90–91]. Однако, несмотря на некоторые различия между изданиями «Руна орошенного» (а также между «Руном орошенным» и книгой «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии»), основная композиция этих «сказаний» везде одинакова: после описания каждого чуда следует его толкование.
В «Предисловии к читателю» в «Руне орошенном» сказано, что «книжка» вышла с исправлением нравоучений и приложением «кратких бесед духовных» (имеется в виду — по сравнению с первой книгой, «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии»), а именно: к каждому чуду было добавлено еще по два нарратива — беседы и прилоги. Нравоучения в этой трехчастной структуре располагались между ними. Т. С. Борисова, анализируя структуру «Руна орошенного», считает, что чудо и прилог окаймляют нравоучение и беседу [Борисова: 61], но мне представляется, что все три части (беседа, нравоучение, прилог) являются комментарием к чуду, его толкованием (а в первой книге «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» этим толкованием является только нравоучение), иначе разрушается общая композиция книги, связанная с ее жанровой принадлежностью: по моему мнению, это именно сказание о чудотворной иконе, и описание чуда должно оставаться главным нарративом.
Беседы и нравоучения составлены самим автором, у них общие источники — Священное Писание и труды Отцов Церкви, они очень близки по содержанию, их цель — донести до читателя христианские ценности через воспевание покровительства и благодеяний Богородицы. Прилоги собраны из разных источников: жития, легенды, патериковые рассказы; среди них и средневековые авторы, писавшие на латинском языке, которые, в основном, были указаны самим Димитрием. Например, в прилоге к 5-му чуду, в рассказе о разорившемся рыцаре, получившем от дьявола сокровище в обмен на жену, латинский первоисточник Димитрий называет в начале повествования:
«Пишет Иаков де Вораине о нѣкоем благороднѣм шляхтиче, иже богат быв, обнища зѣло…» 22 .
Речь, вероятно, идет об Иакове Ворагинском, архиепископе Генуэзском, авторе «Золотой легенды» (“Legenda aurea santorum, sive Lombardica historia”). Задача прилогов — сделать текст не только поучительным, но и занимательным. Обратим внимание на название этого нарратива — прилог: только в структуре первого чуда, которое рассказывает о истечении слез от иконы Ильинской Божьей Матери, он обозначен как приклад (образец, пример), во всех остальных — прилог. Безусловно, это наименование используется прежде всего в основном своем значении — «прибавление», «прибавка»23, т. е. еще один пример. При этом, нет ли здесь намека на второе значение слова (барочная стилистика могла использовать все значения лексемы) — «ухищрение», «уловление»24? В святоотеческой литературе «прилог» — это повод ко греху, возможность развития греховного помысла и проникновение его в душу, а сюжеты всех прилогов «Руна орошенного» — это борьба с греховными намерениями и деяниями: о прозорливом отшельнике Иоанне, видящем грехи Иерусалима (чудо 2); о разрушенных греховных помыслах некой жены к златокузнецу, который заставил епископа поверить в силу молитвы к Богу (чудо 3), о совершившем жестокие злодеяния иерее Павле, лишившемся ума от сребролюбия и принявшем смерть, подобно Иуде (чудо 6), и т. д. Тем не менее, несмотря на живой интерес, который могли вызывать и который вызывали у читателя прилоги «Руна орошенного», основная задача книги, как ее видел автор, заключалась в описании чудес, происходящих от Ильинской иконы и прославляющих ее, а также в наставлении и внушении нравственных правил через нравоучение как особое повествование, включенное в текст произведения.
Такую структуру святитель Димитрий Ростовский использовал почти во всех своих сочинениях. Так, «Келейный летописец», один из последних трудов митрополита, был составлен им не только для изложения библейской истории и ее толкования, но и в качестве духовного нравоучения, о чем он писал своим друзьям:
«Пишу, убо Господу поспѣшествующу, нравоучениа, мѣстами же и толкованиа Писаниа Святаго, елико могу немощный. А истории, яже в Быблиах, токмо вократцѣ въмѣсто фемы полагаю, и от тѣх, аки от источников струи, нравоучения произвожду» 25 ; “…docere, hoc meum intentum, tale desiderium, si non propter alios (nam quis sum ego ut docerem doctos?) saltem propter me ipsum” 26 .
В отличие от книг «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» и «Руна орошенного», Димитрий не выделяет и не маркирует в «Келейном летописце» нравоучения как самостоятельные повествования, но присутствие их в тексте столь очевидно и отчетливо, что писцы рукописей выносили нравоучения в особые оглавления, тем самым подчеркивая их значимость и важность для читателя: нравоучительное содержание памятника часто более всего привлекало читателя, и в этом, на мой взгляд, заключается разгадка его популярности (как известно, количество изданий и списков этого памятника огромно). Причем статьи в этих оглавлениях далеко не всегда совпадали, каждый книжник видел и выписывал свой комплекс нравоучений, рассредоточенных среди ветхозаветных событий.
Таким образом, нравоучительные тексты в ансамбле сочинений ростовского митрополита играли особую роль. Начиная с первых книг святителя Димитрия, сказаний о чудотворных иконах («Чуда Пресвятой и Преблагословенной Девы Марии» и «Руна орошенное»), нравоучения в его творчестве становятся особым художественным приемом — самостоятельным повествованием, отчасти наделенным жанровыми характеристиками; они не только имеют четкую внутреннюю структуру и занимают центральное место в композиции, но и являются важной составляющей художественного времени (см.: [Лихачев: 309–314]). Их значимость заключается еще и в том, что нравственно-духовные тексты, являясь частью толкований к историческому повествованию, переносят события и факты, которые они комментируют, по своей внутренней природе за грани хронологии и нивелируют их историчность, выдвигая на первый план общий, вневременный смысл.
19th Centuries), pp. 82–96. (Ser.: Materials on the History of Siberia; The Academy of Sciences of the USSR of the Siberian Branch.) (In Russ.)
Список литературы Жанровые особенности сочинений Димитрия Ростовского об Ильинской иконе Божьей матери
- Белоненко В. С. Материалы для изучения истории книжного дела и библиотеки Иверского Успенского монастыря на Валдайском озере в XVII–XIX столетиях // Книжные центры Древней Руси. XVII век: разные аспекты исследования / РАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. СПб.: Наука, 1994. С. 90–103 [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/BookCenters/XVII%20v/04-Белоненко.pdf (07.09.2023).
- [Боброва Е. И.] Библиотека Петра I: указатель-справочник / сост. Е. И. Боброва; под ред. Д. С. Лихачева. Л.: БАН СССР, 1978. 215 с. [Электронный ресурс]. URL: https://djvu.online/file/MbPhh0kcleLD3?ysclid=lrt59f4rfw290692542 (07.09.2023).
- Борисова Т. С. Церковнославянский канон и его переосмысление в эпоху барокко: на материале книги «Руно орошенное» Димитрия Ростовского // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2019. № 1. С. 58–66 [Электронный ресурс]. URL: https:// philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/1170/pdf_84 (07.09.2023). DOI: 10.23683/1995-0640-2019-1-58-66. EDN: VYPPJB
- [Васильева Т. М.] Сказания о чудотворных иконах в «Послании восточных патриархов императору Феофилу» / пер., предисл. и коммент. Т. М. Васильевой // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Мартис, 1996. С. 421–435.
- Дилигул Е. С. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери в творчестве Симеона Полоцкого // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: да 390-годдзя Сімяона Полацкага: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (21–22 лістапада 2019 г.). Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. С. 72–78.
- Кириллин В. М. Жанрово-тематические особенности древнерусских сказаний об иконах // Вестник славянских культур. 2009. Т. XII. № 2. С. 60–68 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-sk.ru/russian/archive/2009/n2/literaturnoe-nasledie-drevnej-rusi/zhanrovo-tematicheskie-osobennosti-drevnerusskix-skazanij (07.09.2023).
- Комашко Н. И. Ильинская Черниговская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия, 2009. Т. 22. С. 360–365.
- [Кучкин В. А., Сумникова Т. А.] Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери / вступ. ст. и публ. В. А. Кучкина, Т. А. Сумниковой // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Мартис, 1996. С. 476–509.
- Лепахин В. В. Сказания о чудотворных иконах в древнерусской словесности. М.: Паломник, 2012. 288 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд., доп. Л.: Худож. лит., 1971. 415 c.
- Нечаева Т. В. Литературная история Костромского «Сказания о Феодоровской иконе» в середине — второй половине XVII века // Филевские чтения: сб. ст. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева, 1994. Вып. VI: мат-лы Третьей науч. конф. по проблемам русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. (8–11 июля 1993 г.). С. 60–66.
- Нечаева Т. В. Наблюдения над жанровыми особенностями сказаний о чудотворных иконах // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 1995. № 8. С. 102–123 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44061406_27980172.pdf (07.09.2023). EDN: JSWYAJ
- Петухов Е. В. Очерки из литературной истории Синодика. 1. Судьбы текста чина православия на русской почве до половины XVIII века. 2. Литературные элементы Синодика как народной книги в XVII и XVIII веках: историко-литературные наблюдения и материалы Е. В. Петухова. СПб.: Общество любителей древней письменности, 1895. 406 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003638310?page=1&rotate=0&theme=white (07.09.2023). (Сер.: ОЛДП; т. 108.)
- Пигин А. В. Памятники рукописной книжности Олонецкого края. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 225 c. EDN: QYICFT
- Романова А. А. Почитание святых и чудотворных икон в России в конце XVI — начале XVIII в.: религиозная практика и государственная политика: дис. … д-ра истор. наук. СПб., 2016. 507 с. [Электронный ресурс]. URL: https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/dZT1gwZH8J.pdf (07.09.2023).
- Ромодановская Е. К. Сибирские повести об иконах (XVII–XVIII вв.) // Сибирь периода феодализма: сб. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1968. Вып. 3: Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII–XIX вв.). С. 82–96. (Сер.: Материалы по истории Сибири; Акад. Наук СССР. Сиб. отд.)
- Савельева Н. В. Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Русского Севера (Пинега и Мезень) / РАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом). СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. 448 с. (Сер.: Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях.)
- Сазонова Л. И. Литературная культура России: раннее Новое время / РАН, ИМЛИ. М.: Языки славянских культур, 2006. 896 с. (Сер.: Studia philologica.)
- Словарь книжников и книжности Древней Руси / РАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачев; ред. Д. М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Вып. 3: XVII в. Ч. 4: Т — Я. Дополнения. 889 с. (Сер.: Словарь книжников и книжности Древней Руси.)
- [Турилов А. А.] Рассказы о чудотворных иконах монастыря Хиландар в русской записи XVI века / вступ. ст. и публ. А. А. Турилова // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Мартис, 1996. С. 510–529.
- Федотова М. А. Книги «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии» и «Руно орошенное» Димитрия Ростовского // Литература и история в контексте археографии: сб. науч. тр. / РАН, Ин-т истории, Сибир. отд-е. Новосибирск: Апостроф, 2022. С. 77–96. (Сер.: Археография и источниковедение Сибири; вып. 41.)
- Шевченко Ю. Ю. Богородица Спилеотисса на древних христианских филактериях c изображениями серпентарид // Библиотека «РусАрх»: электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры [Электронный ресурс]. URL: http://rusarch.ru/shevchenko4.htm (07.09.2021).
- Э. П. Р. «Звезда пресветлая» // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия, 2008. Т. 19. С. 734–735 [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/text/182737.html?ysclid=lruhy-40dw6157714782 (07.09.2023).
- Адруг А. К. Живопис Чернiгова другоï половини XVII — початку XVIII столiть. 2-е вид., перероб. і доп. Чернiгiв: Видавництво Чернiгiвського ЦНП, 2013. 182 с.
- Ebbinghaus A. Die altrussischen Marienikonen-Legenden. Slavistische Veröffentlichung. Berlin: Otto Harrassowitz, 1990. Bd. 70. 290 p.
- Mazurkiewicz R. Z dawnej literatury Maryjnej: zarysy і zbliżenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. 217 s.
- Фетiсов I. Збірник легенд Агапія Критянина «‘Αμαρτωλών Σωτηοία» в українському та московському письменствах та народній словесності // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1928. Кн. 19. С. 1–41; 1929. Кн. 23. С. 37–95.