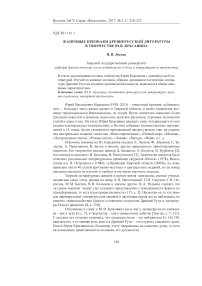Жанровые признаки древнерусской литературы в творчестве Ю.В. Красавина
Автор: Лосева Наталия Вениаминовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается связь творчества Юрия Красавина с древнерусской литературой. Изучается влияние мотивов, образов, принципов построения литературы Древней Руси на создание произведений писателя, выявляются общие жанровые характеристики.
Ю. в. красавин, памятники древнерусской литературы, древние книжники, интертекcтуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/146122077
IDR: 146122077 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Жанровые признаки древнерусской литературы в творчестве Ю.В. Красавина
Юрий Васильевич Красавин (1938–2013) – известный прозаик, публицист, поэт – большую часть жизни провел в Тверской области, в своем творчестве воспевал провинциальное Верхневолжье, ее людей. Всего писателем написано более тридцати повестей и романов, несколько десятков рассказов, огромное количество статей и даже стихи. На счету Юрия Красавина двадцать книг, четырнадцать из них изданы в центральных издательствах, и Полное собрание художественных произведений в 14 томах. Более семидесяти произведений автора увидело свет на страницах центральных изданий, таких как «Наш современник», «Новый мир», «Москва», «Литературная газета», «Роман-газета», «Знамя», «Звезда», «Нева» и т. д.
Огромное влияние на Ю. Красавина оказали Л. Леонов, Ф. Абрамов, С. Залыгин, А. Приставкин, В. Белов и многие другие национально ориентированные писатели. Его творчество высоко ценили Д. Балашов, А. Бологов, В. Курбатов [2], его ставили в один ряд с В. Беловым, В. Распутиным [12]. Творчество писателя было отмечено различными литературными премиями (журнала «Волга» (1978), Всесоюзная им. Н. Островского (1984), губернатора Тверской области (2009)), по нему написано около 40 статей критиками местных и центральных изданий, но до конца наследие писателя не изучено и требует в изучении научного подхода.
Теорией литературных жанров в разное время занимались разные ученые, выдвигали свою точку зрения на жанр А. Н. Веселовский, П.Н. Сакулин, Г.Н. Поспелов, М. М. Бахтин, В. В. Кожинов и многие другие. В. А. Редькин считает, что «в самом понятии “жанр” уже заложено представление о повторяемости форм и их трансформации, то есть идея преемственности» [15, с. 3]. Несмотря на то что жанров древнерусской литературы как таковых в настоящее время мы не наблюдаем, но заметно «взаимодействие (диалог) словесного искусства Древней Руси и литературы Нового времени» [8, с. 250].
Отношение к слову у Ю. В. Красавина было как у древнерусского книжника – как к чуду [4, с. 7], к творчеству – как к священному действу [Там же, с. 7, 121]. С детских лет он начал понимать, что пишущие люди – это небожители [1; 16]. Общеизвестно, что главная роль книги в Древней Руси – это служить спасению души. Книги Юрия Красавина по большому счету направлены на спасение души, то есть на повышение нравственности человека, его духовности.
Обращенность к древнерусской литературе в творчестве Ю. В. Красавина просматривается уже на уровне поэтики названий («Слово о моей Нерли», «Хождение за три поля») и углубляется в использовании принципов построения произведения, мотивов, образов, словесных формул, интертекстуальных пересечений с Библией, Евангелием и другими священными книгами. Произведения писателя отличаются патриотической авторской позицией, возвышенным слогом, пафосностью, характерными для древнерусской литературы. Бинарность мышления древнерусского книжника проявляется также во многих произведениях Красавина, где автор использует антитезу («город – деревня», «положительный герой – отрицательный», «добро – зло» и т. д.).
В творчестве Юрия Красавина прослеживается обращение к христианским мотивам, религиозным реминисценциям, свойственным древнерусской литературе, отличающейся агиографическим характером. Молитву как древнерусский церковный текст автор использует в повестях «Хождение за три поля», «Свидетельство о жизни», рассказе «Воровская ночь», статье «Меня греет незакатное солнце Родины» и т. д. В автобиографических повестях, статьях писатель прибегает к цитатам из произведений Даниила Заточника, протопопа Аввакума.
Обращение к религиозным мотивам помогает Красавину в создании образов героев. Среди героев красавинской прозы можно выделить типажи героев древнерусских житий: мучеников («Новая Корчева», «После полуночи», «История ненаписанной книги»), юродивых («Русские снега», «Полынья», «Мастера») и в большом количестве отшельников («Хуторок», «Труба зовет», «Хранительница огня», «Про полковника», «29 праздников», «К великому морю»).
Особая тяга к уединению, отшельничеству возникла у героев Красавина во время перестройки, когда встала необходимость спасти душу. Раздавленные суровой действительностью, они бегут в лес («Труба зовет»), спасаются сном («Хуторок»). Вынужденное одиночество-стояние встречается у старухи Александры из рассказа «Хранительница огня» и бомжа Толика Вострикова из повести «29 праздников». Лев Алексеевич Охотников обрекает себя на одиночество, удаляясь в брошенную деревню, как бы расплачиваясь за былую праздную жизнь. Отшельником выглядит и сам автор в автобиографической повести о писательском пути «К великому морю», добровольно заточивший себя в рабочем кабинете в уездном городке Конаково.
Кто из героев не смог уединиться, попал под жернова действительности. И это судьба героев-мучеников красавинской прозы. Так, в образе мученика выступает писатель из цикла повестей «Новая Корчева», который отчаянно сражается с чиновниками за право летописать историю города. Другой писатель-мученик выступает в рассказе «Опора»: отчаявшись заработать себе на жизнь честным трудом литератора, он решает свести счеты с жизнью, но передумывает.
Встречаются в творчестве Юрия Красавина и юродивые, по традиции являющие глас Божий. Так, нищими духом выступают Лёдик из рассказа «Полынья», Ванька Сорокоумов из романа «Русские снега», старик Горшенин из романа «Мастера». Лёдик, познав греховность мира, решил утопиться. Ванька носит на лице печать подковы – так авария, принесшая страдание, стала для него символом счастья (автор ассоциирует страдание со счастьем). Старик Горшенин хочет написать книгу о фарфоровом заводе; его необычная философичность, неистовость в летописании истории завода закрепили за ним эпитет «сумасшедший».
Также Красавин широко использует образы богомольцев. Это «вечная» бабушка из повести «Вот моя деревня…», которая уходит жить в церковь; это ветхий старичок-«божий человек» из романа «Колхозные элегии», который жил в домах из милости; это церковная прислужница из «Пустоши», уверенная, что Ивану Проклову было Слово Господне найти землю обетованную и подобно Моисею привести туда свой народ. В романе «Русские снега» несколько богомольцев: странник Овсяник, который идет в Иерусалим, чтобы помолиться у Гроба Господня за Россию, и богомолица Ольга, творящая своей молитвой для всех людей святое дело.
Ю. В. Красавин прибегает непосредственно к героям из православного мира: Богородица («Русские снега», «После полуночи»), апостолы, Бог («После полуночи»).
Несмотря на сходство с житийной литературой, о произведениях Юрия Красавина можно сказать словами С. Ю. Николаевой: они «более беллетризованы, более психологичны, в большей мере учитывают материалистический характер сознания читателя, нежели традиционная агиография» [10, с. 292].
Кроме типологического сходства с жанром жития, просматривается «диалог» с жанром хожений. Мотив дороги, как символ жизненного пути, возникает во многих произведениях писателя: «Тропинки нашего детства», «Хождение за три поля», «К великому морю», «Письмена». Названия «Хождение за три поля» Юрия Красавина и «Хожение за три моря» Афанасия Никитина находятся в текстологической перекличке. «Три поля» – это не только рифмованный перифраз названия древнерусского памятника; за тремя полями находится деревня Ремнево, где живет три «моря» людей – «Дмитриевых-Рожковых-Власовых», поселенных автором в проданном доме. Повесть Юрия Красавина соответствует жанру «хождения» оценкой пройденного пути деревней за последние годы и характером повествования – это так называемые путевые заметки.
Признаки жанра хожения просматривается и в романе «Великий мост». В конце романа погрязший в грехах герой выходит на реку (дорогу) и идет по ней к озеру Ильмень. Мережников идет путем, который проходил святой в «Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе». Новгородцы, оскорбленные прелюбодеянием Ионна, посадили его с Великого моста на плот со словами: «Посадим его на плот на реке Волхове – пусть выплывет из нашего города вниз по реке» [3, с. 413]. Но плот поплыл по стремнине не вниз, а вверх по течению до Юрьевского монастыря, что подтверждает святость Иоанна.
По описанию Красавина, Мережников выходит на Волхов географически в том же месте, где раньше был Великий мост, идет по льду в направлении Юрьевского монастыря. Путь Иоанна – это путь праведника. С одной стороны, герой внешне чист в отношениях с Натальей, из-за которой претерпел гонения общества, поэтому шел путем Иоанна. С другой стороны, втайне от общества он был греховен по отношению к другим женщинам и поэтому проходит мимо Юрьевского монастыря, направляясь к озеру Ильмень. Этот путь очень близок герою в силу идейной составляющей романа, так как название озера имеет глубокий подтекст, становясь необычным образом-символом. Наиболее распространенное толкование этимологии слова Ильмень опирается на его перевод с финского – «небесное озеро». Небо в православии всегда означало божественное начало, приход к небесному озеру ассоциируется с приходом к праведной жизни, духовным очищением. Исторические личности, образы которых живут в сознании героя, вместе с ним выходят к Ильменю, к Господу, что говорит о спасении русского народа посредством веры – так надо понимать иносказание Ю. В. Красавина.
О связи романа с древнерусским памятником говорит незамерзающая стремнина Волхова («в невидимой отсюда промоине легонько хлюпала вода о закрайку»
[5, с. 191]), присутствие высших сил (Владимира Андреевича «перенесло… по воздуху в одно мгновение» [Там же, с. 192]; «словно подчиняясь некоему могучему велению» [Там же, с. 193]).
Аллюзии на «Хожение Богородицы по мукам» просматриваются в романе «Русские снега». В «Хожении…» Богородица наблюдает за страданиями грешников, в романе этих грешников объединяет один грех – кровопролитие на войне. Участники различных войн неприкаянны, они не могут найти себе покоя ни на земле, ни на небе.
Ряд ассоциативных перекличек с «Хождением Агапия в рай» наблюдается в повести «После полуночи». Это проявляется в первую очередь в сюжетостроении, деталях. В начале «Хождения…» появляется отрок, отца которого знает Агапий. В образе отроковицы в начале повести выступает молодая женщина, годящаяся в дочери главному герою, с которым был дружен ее отец. Сокол небесный из «Хождения…» ассоциируется с «соколом» земным в виде мотоцикла, от удара которого главный герой «После полуночи» попадает на тот свет – рай в «Хождении…». Двенадцать апостолов из «Хождения…» в повести – «неисчислимое количество… свиты или воинства» [6, с. 473]. «Сияние в семь раз светлее света» [11, с. 161] соответствует описанию в повести Красавина: «оранжевый свет полыхнул зарницей по всему небу и просеялся до земли и остался во всем этом пространстве» [6, с. 473]. Как и в «Хожении…», главный герой повести встречает Бога и разговаривает с ним. Диковинные птицы из романа «Письмена» находятся в образной перекличке с яркими необычными птицами из «Хожения…»
Жанр «хожения» влияет и на жанровую структуру других произведений Красавина. Хождение Овсяника в Иерусалим из «Русских снегов» перекликается с «Хождением игумена Даниила в святую землю». История Яра из романа «Письмена» напоминает историю Афанасия Никитина из «Хождения за три моря»; особенно живо представляется корабль Афанасия, набитый добром, когда его грабят Шестак Малыга и Злобка Скосырь.
Просматривается и воздействие жанра «слова» на стилистику творчества писателя. Повесть Ю. В. Красавина «Слово о моей Нерли» не только имеет в названии жанр древнерусской литературы «слово», но жанровое сходство. В древнерусском «Слове» проявлялись черты ораторской прозы, красноречия, говорилось о божественном происхождении мира, человека, истории русского народа. Автобиографическая повесть «Слово о моей Нерли» соответствует жанру «слова» своим трепетным отношением к божественной сути природы, прославлением родной деревни Ремнево, ее народа. Соответствует «Слову» и приподнятость, пафосность повествования, обилие риторических вопросов и восклицаний.
В древнерусской литературе часто встречаются цитаты из других памятников, текстов Священного писания. Творчество Ю. В. Красавина насыщено образами, реминисценциями, аллюзиями из различных древних книг, Библии, Евангелия. В повести «Ясные дни» автор проводит аналогию между брошенной землей и забытой мачехой, таким способом создавая образ земли-мачехи. Михаил бросает ее, а когда приезжает, то умоляет спасти его и простить. Герой выступает в роли кающегося грешника, что созвучно библейской притче о блудном сыне.
Историческое полотно «Письмена» имеет целый ряд ассоциаций с древнерусскими памятниками. История Яра перекликается и со «Сказанием о добром молодце» желанием героя попасть в дивные страны. Есть реминисценции из «Повести временных лет». Именное созвучие просматривается между Яном Вышатичем из летописи и Яром Вышатичем Красавина. В «Письменах» говорится о мимоходце «из стран Царьграда» [7, с. 17], который шел вверх по реке. Он замахивался на курильни, ратился с самим Лютомором и одолевал его какими-то особыми словами. В «Повести временных лет» апостол Андрей «отправился вверх по Днепру» [13], проповедуя новую религию. В «Письменах» появилось «на встоце три солнца, а четвертое на западе» [7, с. 26]. Четыре солнца на небе ассоциируются с четырьмя солнцами, олицетворяющими князей в «Слове о полку Игореве».
В романе также повествуется об отце Кирилле, который в свое время ставил на полях древней книги кресты от «бесей», писал молитвы для заблудших душ. Отец Кирилл из романа ассоциируется с талантливым писателем Средневековья Кириллом Туровским, написавшим в том числе «Притчу о человеческой душе, и о теле…», философия которой органично ложится в общую канву романа.
Обращение к древнерусской литературе, священным книгам в конечном итоге помогают Красавину не только претворить замысел в реальность, но и воссоздать таинственную жизнь души героев. «Вот это ощущение тайны и составляет особенность духовного реализма. Тайны Бога, тайны мира, тайны человека» [14, с. 50], что позволяет отнести творчество писателя к такому направлению, как «духовный реализм».
Подобный принцип – изображение диалектики души человека с помощью древнерусских мотивов и образов – тонко использовали русские классики, например, Л. Н. Толстой в романе «Воскресение» [9]. Как убедительно показано С. Ю. Николаевой, «обобщающая сила и выразительность» толстовского повествования обусловлены не только талантом писателя, но и «большой памятью, опорой на древнерусскую литературную традицию», что помогло Толстому раскрыть «индивидуальный духовный опыт» его героев, подтвердить правоту идеи Кирилла Туровского «о неизбежности воскресения, о торжестве веры над неверием» [Там же, с. 83–84]. Можно сделать вывод о том, что Юрий Красавин в своем освоении древнерусских традиций идет по пути, определенном до него русской классической литературой.
Список литературы Жанровые признаки древнерусской литературы в творчестве Ю.В. Красавина
- Вершинин С. В моей родословной -Иваны да Анны …//Тверская жизнь. 1997. 18 июня. С. 3.
- Гулидова Л. Спаси, господи, мою малую родину: интервью//Тверская жизнь. 1998. 26 февраля. С. 2.
- Изборник: cборник произведений литературы Древней Руси/сост. и общая ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М.: Худож. лит., 1969. 413 с.
- Красавин Ю. В. Полн. собр. худож. произведений: в 14 т. Т. 1. Тверь: Наука и культура, 2010. 448 с.
- Красавин Ю. В. Полн. собр. худож. произведений: в 14 т. Т. 7. Тверь: Наука и культура, 2010. 383 с.
- Красавин Ю. В. Полн. собр. худож. произведений: в 14 т. Т. 11. Тверь: Наука и культура, 2010. 479 с.
- Красавин Ю. В. Полн. собр. худож. произведений: в 14 т. Т. 12. Тверь: Наука и культура, 2010. 511 с.
- Николаева С. Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г. Р. Державина до Ю. П. Кузнецова): монография. Тверь, 2010. 252 с.
- Николаева С. Ю. О символике пейзажа в «Воскресении Л. Н. Толстого»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 10.
- Вып. 3. С. 78-86.
- Николаева С. Ю. Преломление агиографической традиции в прозе Ф. А. Абрамова и В. Н. Крупина//Русская литература XX-XXI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения): V Междунар. науч. конф.: Материалы конференции. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 290-294.
- Памятники литературы Древней Руси: XII век/сост. и общая ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М.: Худож. лит., 1980. 704 с.
- Парфенов С. Выразить то, что думает и чувствует народ: о прозе Ю. Красавина//Тверские ведомости. 1998. № 1. С. 6.
- Повесть временных лет/под ред. В.П. Адриановой-Перетц: в 2 ч. Ч. 1. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 406 с.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков: Новый взгляд. Тверь: ТОКЖИ, 1999. 152 с.
- Редькин В. А. Русская поэма 1950-1980-х годов: Жанр. Поэтика. Традиции: монография. Тверь: Тверской. гос. ун-т, 2000. 256 с.
- Юдин В. А. Селяви писателя русской провинции//Вече Твери. 2011. № 33. С.18.