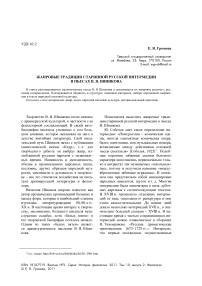Жанровые традиции старинной русской интермедии в пьесах В. Я. Шишкова
Автор: Громова Евгения Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются малоизученные пьесы В. Я. Шишкова и доказывается их жанровое родство с русскими интермедиями. Подчеркивается общность в структуре, языковом материале, наборе персонажей, выражении в тексте народной смеховой культуры.
Интермедия, жанр, пьеса, народная смеховая культура, интермедиальный персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/14737415
IDR: 14737415 | УДК: 82-2
Текст научной статьи Жанровые традиции старинной русской интермедии в пьесах В. Я. Шишкова
Творчество В. Я. Шишкова тесно связано с древнерусской культурой, в частности с ее фольклорной составляющей. В своей автобиографии писатель упоминал о том большом влиянии, которое оказывала на него в детстве житийная литература. Свой писательский путь Шишков начал с публикации символической сказки «Кедр», т. е. для творческого дебюта он выбрал жанр, излюбленный русским народом с незапамятных времен. Напевность и мелодичность, обилие в произведениях народных песен, пословиц, других образцов народной мудрости, мистицизм и духовность в творчестве – все это отпечаток воздействия на писателя древнерусской литературы и фольклора.
Вячеслав Шишков широко известен как автор прозаических произведений больших и малых форм, которые в наибольшей степени изучались литературоведами 50–80-х гг. XX в. В настоящее время интерес к творчеству, несомненно, большого писателя незаслуженно ослабел, хотя «белых пятен» в его творческой биографии осталось немало. Одним из таких «белых пятен» является драматургическое наследие В. Я. Шишкова.
Попытаемся выделить жанровые традиции старинной русской интермедии в пьесах В. Шишкова.
Ю. Соболев дает такое определение интермедии: «Интермедии – комические сцены, иногда одноактная комическая опера, балет, пантомима, или музыкальные номера, вставляемые между действиями основной пьесы спектакля» [Соболев, 1925] 1. Подобные короткие забавные сценки бытового характера исполнялись первоначально только в антрактах так называемых «школьных» пьес, потому и получили название «между-вброшенные забавные игралища». В основном они представляли собой инсценировки народных анекдотов, шуток и т. д. Многие интермедии были напечатаны в виде лубочных картинок с соответствующим текстом. В XVIII в. произошло отделение интермедий от пьес «школьного» репертуара и они стали самостоятельными. До наших дней дошло несколько интермедий XVII в., в значительно большей степени – XVIII в. В настоящее время с частью сохранившихся интермедий можно ознакомиться в сборнике Н. Тихонравова «Русские драматические произведения 1672–1725 гг.». Интересно, что первые постановки, осуществленные на тверской сцене, также сопровождались интермедиями. Так, интересным образцом социальной сатиры являются интермедии к тверской «Опере об Александре Македонском», разыгранной воспитанниками Тверской духовной семинарии в начале XVIII в.
Причина популярности интермедий была в том, что «пьесы «серьезного» репертуара… все более очевидно стали выражать идеологию господствующего класса, враждебную интересам демократических масс, тогда как интермедии, выросшие большей частью из народных сатирических анекдотов, иронических и шуточных сказов и т. д. …больше отражали воззрения народных зрителей и были им ближе» [Русская народная…, 1953. С. 17]. Литература, в частности драматургия после революции 1917 г. также должна была соответствовать интересам народа. В. Шишков писал в своей автобиографии: «С большим волнением всматриваясь в небывалые события народной жизни, я работал с особым рвением, будучи настроен бодро и радостно. И я никогда, ни на один день не представлял себе свои личные радости и горести, тем более писательскую свою судьбу, – вне судьбы народа» [Шишков, 1956. С. 8]. В 20-х гг. он написал серию юмористических «шутейных» рассказов, в которой отобразил жизнь современной ему деревни. Невежество и карьеризм, подхалимство и жалость, глупость и дикость – вот те человеческие пороки, которые в мастерской сатирической форме высмеивает писатель, и противопоставляет им народную мудрость и находчивость. Благодаря непринужденной веселости повествования, читатель-выходец из простого народа легко принимал и понимал рассказы, Шишков неоднократно с успехом читал их на эстраде. К «шутейным» рассказам» по идейному содержанию тесно примыкают написанные в это же время пьесы. На то, что и они в свое время пользовались популярностью, указывает письмо В. Шишкова к В. М. Бахметьеву от 23 августа 1920 г.: «…Да везде, где есть большой театр и хорошая труппа, наверняка будут ставить. Потому – там пение, пляска, возня, шум – это народу нравится, а автору – лафа, хы!» [Там же. С. 254].
Проследить жанровые традиции старинных русских интермедий в пьесах В. Шишкова можно в двух ракурсах: выделить в драматических произведениях Шишкова черты, характеризующие этот жанр, и выде- лить из текста пьес короткие комические сценки, которые могут претендовать на статус интермедии.
Исследователь восточнославянских интермедий П. Левин одной из наиболее существенных черт этого жанра выделяет структуру, обусловливающую участие зрителей в спектакле [1971. С. 105]. В древнерусских интермедиях это непосредственное обращение к зрителям: в интермедии «Маркитант и ставленник» маркитант обращается к публике «Кто тут спрашивал подовых, господа честные», к зрителям «панам мирянам» о помощи взывает Мужик во второй интермедии к драме Георгия Конисского «Воскресение мертвых».
Для возможности диалога со зрителем В. Шишков вводит в свои пьесы хор. Праздничное настроение веселой свадьбы в начале драмы «Вихрь» вносит хор: «Ну, ребята, пляшите / Не жалейте лапти-те». В сцене обыгрывания арестантами службы панихиды в пьесе «Старый мир» хор подчеркивает нелепость и бессмысленность происходящей ситуации:
Не спеть ли нам, братия, что-нибудь?
Не спеть ли нам, братия, что-нибудь?
Спели бы, да не знаем что, Спели бы, да не знаем что.
Еще одной характеристикой интермедий является оживленное движение на сцене, создание ситуации суматохи. Это явно видно из ремарок: например, в интермедии «Гаер, поп, подьячий и монах»: «Старец и Подьячий бросаются и бьют попа, а Поп барахтается, тогда заиграют бычка, и все трое плясать пойдут, Подьячий запинается за железы, а Старец, упуская из рук стул, то и дело падает» [Русская народная…, 1953. С. 93]. Обратимся к ремаркам пьес В. Шишкова: «Съезжий праздник» – престол. Гости из своего села и соседних деревень. Девицы, парни, мужики. Назар угощает гостей пивом: нацедит в жбан и подает крайнему. Жбан идет по гостям…возвращается Назару, вновь наполняется и передается дальше. Веселая вечорка», «Несколько парней и девок бросаются плясать, к ним пристает и Пётр. Ванька гикает, носится, подпрыгивает, свистит. Разудалый русский пляс, песня. Изба ходуном ходит» («Вихрь», 1-е действие).
Образцом пьес В. Шишкова, в структуре которых условно можно выделить «между-вброшенные забавные игралища», является мелодрама «Старый мир». Серьезная по идейному содержанию, с острым социальным конфликтом пьеса, изображающая послереволюционную действительность, необычайно музыкальна. Она наполнена народными песнями, и к изданию книги Шишков прилагал ноты. Отдельным героем драмы является хор, функция которого быть не просто элементом декоративного оформления пьесы, оживлять ее, но и давать объективную оценку происходящих событий, подытоживать действие. Так, завершает пьесу именно песня хора:
Отречёмся от старого мира, Отрясём его прах с наших ног...
Нам не надо златого кумира, Ненавистен нам царский чертог...
Древнерусские интермедии также отличались музыкальностью (музыкальные интермедии называли интерлюдиями).
Два эпизода в пьесе - приход ряженых и обыгрывание службы панихиды - выделяются из текста своей интермедиальной направленностью. В частности, одной из особенностей интермедий было наличие в их структуре элементов пантомимы: например, любовник, испугавшись мужа, притворяется статуей. Были распространены пантомимы с переодеванием. В «Старом мире» Шишкова на сцене появляются под предводительством Цыгана ряженые, переодетые в медведя, козу, тунгуса с тунгуской, спиртоноса, колдуна. На пантомимический компонет указывают ремарки: «Медведь рявкает, поджимает лапы к брюху и кланяется» или в сцене игры в «похороны бабушки»: «Окурка одевают бабушкой, повязывают платком. Окурок ложится на лавку, руки складывает на груди, как покойник. Пробка одевается попом, из бушлата делает род ризы, на голову колпак-скуфью. Вьют из полотенца жгут, на конце заматывают груз, получается кадило».
Есть еще одно общее, объединяющее интермедии и пьесы В. Шишкова - выражение в них народной смеховой культуры. М. Бахтин в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» [1990] выделил три формы ее выражения: обрядово-зрелищные формы; словесные смеховые произведения; различные формы и жанры фамильярно-площадной речи. Интермедия в рамках жанра является «смеховым» произведением, представляющим собой комическое зрелище, созданное на потеху публике. Обрядовозрелищные формы народной культуры присутствуют в пьесах В. Шишкова. Драма «Вихрь» открывается свадебным праздником, и это не случайно. Бахтин пишет: «...празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении» [Там же. С. 14]. Свадьба в пьесе - радостное событие, происходящее перед объявлением народу о войне, - создает у зрителя картину беспорядочного веселья и хаоса и подготавливает к надвигающимся событиям. Еще более обрядовозрелищные формы народной культуры проявляются в пьесе «Старый мир» в эпизодах с приходом ряженых и обыгрыванием службы панихиды.
Что касается форм речевой жизни, то для смеховой народной культуры характерны ослабление речевого этикета и речевых запретов, употребление бранных выражений, замена имен прозвищами, появление возможности взаимного осмеяния и пр. Разумеется, все это присутствует в текстах интермедий: пренебрежительное отношение к собеседнику («Разве ты слеп, то прочистить глаза те ясно» - «Маркитант и ставленник»), употребление ругательств («Каналия, вот тебе лучше заплата» - «Херлекин и Шляхтич»). В пьесах Шишкова народная речь также проявляется во всех возможных формах, в частности у большинства персонажей есть клички (Кувалда, Блямба, Окурок, Пробка в «Старом мире», Митька-Смерть -в «Вихре»), или они названы по профессии либо по роду деятельности (Пастух в «Грамотеях», Купчик, Молодой крестьянин в «Мужичке»; как, кстати, практически во всех интермедиях), или имена персонажей в списке действующих лиц даны с уменьшительно-ласкательным суффиксом (Бабка Федосья, Бабка Дарья, Ванька в «Грамотеях», Сёмка, Яшка в «Старом мире», Ванька-Пастух, Фиска в «Вихре»).
Зачастую объектом комического обыгрывания в интермедиях и в драматургии Шишкова становится языковой материал. Яркий пример - интермедия «Паяц»:
Товарищ. Паяц, тебя ищет полиция.
Паяц. Меня ищут в больницу? Зачем. Я здоровый, не хвораю.
Товарищ. Нет, не в больницу, а в полицию. Тебя нужно отдать в солдаты.
Паяц. Меня в собаки? Как, я шкуру потерял и брехать не умею.
Товарищ. Да не в собаки, а солдаты. Ты будешь служивый.
Паяц. Я с пружиной? А где меня будут заводить? <...> [Русская народная..., 1953. С. 110].
У Шишкова тоже распространен прием подмены понятий, правда, в указанной интермедии герой намеренно путает слова, а у Шишкова это связано с появлением так называемой «народной этимологии»:
Марфинька. Кто отобрал, где?!
Панкратыч. Кто! Знамо, товарищи. За-грабительный отряд какой-то. Кому боле-то? Вот и заграбили все?
Абрамов. Не заграбительный, а заградительный (улыбается).
Панкратыч. Всё единственно, как ни назови. Пискулянт, говорят, малодер [Шишков, 1920. С. 7].
Стандартным был набор персонажей в интермедии и связывался с объектом осмеяния, которым в основном были представители власти или духовенства: корыстолюбивые судьи, пьяницы-монахи, алчные священнослужители. Им противостоял остроумный Гаер, Паяц или Арлекин, предшественник ярмарочного Петрушки. Так, и в пьесе Шишкова «Старый мир» объектом сатиры становятся Дьякон - любитель кутежей и веселых пьянок, однако не признающийся в этом («духовному сану не подобает»); отдельно в списке персонажей выделены «1-ый пьяный» и «2-ой пьяный».
Другая группа интермедиальных персонажей - это инородцы и различные «маргиналы», фигуры, традиционно занимающие «пограничное» положение в культуре. В русской традиции среди них тоже присутствуют Цыган, Жид, Грек; а также Пьяница, Поп, Лекарь и другие, не менее популярные фольклорные персонажи. В этой группе представители власти - подьячие и приказные, и фантастический персонаж Черт, и аллегорический персонаж - Смерть.
Интермедиальным персонажем в пьесе является Цыган в сопровождении ряженых. Он разыгрывает перед зрителями комическое мини-представление, заставляет Дьякона присоединиться к веселящейся пляшущей толпе, дает характеристику ситуации с приставом и Наташей: «К чорту в лапы угодила».
В драме «Вихрь» отдельное место занимает еще один персонаж - Митька-Смерть. Он появляется в ходе пьесы в кульминационные трагедийные моменты. Так, первое его появление ремаркируется автором: «При слове “война” быстро входит Митька-Смерть _ останавливается у косяка и все время стоит не шелохнувшись». Его описание в списке действующих лиц уже заставляет читателя проявить интерес к его действиям: «Юродивый парень, всегда одет смертью, в длинном белом балахоне, с косой. Лицо то открыто, то закрыто наголовником, смотря по обстоятельствам. Говорит гнусаво, тягуче, старушьим голосом. Хохот громыхающий, дикий, злобно-таинственный, наводящий ужас». Юродивый герой в пьесе появляется вовсе не случайно. В исследованиях А. М Панченко, касающихся феномена древнерусского юродства [1984], оно характеризуется как «третий мир» древнерусской культуры, так как занимает промежуточное положение между смеховым миром и миром церковной культуры. В драме «Вихрь» затрагивается проблема Бога и церкви, которая по-разному осмысливается разными персонажами. Митька-Смерть присутствует и при этих спорах, однако основной задачей этого действующего лица становится обозначение новых этапов в развитии действия пьесы (персонаж появляется на сцене в начале или в конце действий).
Исследователь русской народной драмы Н. И. Савушкина предложила достаточно полную классификацию персонажей древнерусского театра. Из этой классификации можно выделить отдельную группу, которая как раз представлена и в интермедиях, и в драматургии В. Шишкова: «персонажи социально-бытовые, которые являются частью общефольклорного традиционного фонда персонажей, их можно встретить в сказках, анекдотах, песнях, прибаутках...» и «персонажи <...> составляющие <...> определенную профессионально-дифференцированную среду...» [Савушкина, 1988. С. 114].
Безусловно, театр интермедии оказал влияние на формирование первых русских литературных бытовых комедий Сумарокова, Фонвизина и др. и на развитие русской демократической драмы, образцом которой являются и пьесы В. Шишкова. Опираясь на принципы народного театра, они пронизаны реалистичностью изображаемых событий, острой сатирой и являются своеобразным отражением перемен общественного сознания в сложный послереволюционный период.