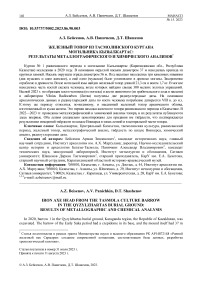Железный топор из Тасмолинского кургана могильника Кызылжартас: результаты металлографического и химического анализов
Автор: Бейсенов А.З., Паничкин А.В., Шашенов Д.Т.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Курган № 1 раннесакского периода в могильнике Кызылжартас (Карагандинская обл., Республика Казахстан) исследован в 2020 году. В основании округлой насыпи диаметром 37 м находилась крепида из крупных камней. Насыпь окружала ограда диаметром 56 м. Под насыпью находились три каменных изваяния (два мужских и одно женское), а ещё одно (мужское) было установлено в дромосе могилы. Захоронение ограблено в древности. Возле могильной ямы найден железный топор длиной 21,3 см и весом 1,7 кг. В могиле находились часть костей скелета человека, возле которых найдено свыше 300 мелких золотых украшений. Весной 2023 г. по образцам кости человека (из могилы) и кости животного (из грабительского хода в насыпи) в лаборатории Vilnius Radiocarbon (Литва) получены две радиоуглеродные даты. На основании археологических данных и радиоуглеродной даты по кости человека погребение датируется VIII в. до н.э. К этому же периоду относится, по-видимому, и массивный железный топор архаического облика, изготовленный из куска железа. Это первая находка железного топора раннесакского периода в Казахстане. В 2022-2023 гг. проведены металлографический и химический анализы топора, и их результаты публикуются здесь впервые. Оба лезвия специально цементированы для придания им твёрдости, что подтверждается результатами измерений твёрдости по шкале Виккерса в зонах лезвий и в центральной части топора.
Кызылжартас, центральный казахстан, тасмолинская культура, раннесакский период, железный топор, металлографический анализ, твёрдость по шкале виккерса, химический анализ, радиоуглеродная дата
Короткий адрес: https://sciup.org/14129204
IDR: 14129204 | DOI: 10.53737/5002.2023.86.90.003
Текст научной статьи Железный топор из Тасмолинского кургана могильника Кызылжартас: результаты металлографического и химического анализов
МАИАСП № 15. 2023

Рис. 1. Общий вид топора (1: а—b, 2: a—b) и его лезвий: 3 — лезвие 1, 4 — лезвие 2.
Fig. 1. General view of the axe (1: a—b, 2: a—b) and its blades: 3 — blade 1, 4 — blade 2.
МАИАСП № 15. 2023
Железный топор из тасмолинского кургана могильника Кызылжартас …
В ходе исследования были найдены бронзовое шило, мелкие золотые изделия от парадного костюма (Бейсенов 2021а: рис. 6), а на краю могилы, на древнем горизонте (Бейсенов 2021а: рис. 5: 2) находился уникальный железный топор (рис. 1).
В насыпи встречены 16 отдельных фрагментов керамики, исследование которых показало сходство с глиняной посудой тасмолинской культуры (Бейсенов и др. 2021). В 2022 г. на спектометре «Olimpus» была определена пробность золотых изделий, по результатам которого было выявлено соотношение основных элементов: золота, серебра и меди. В настоящее время готовится проведение полного анализа состава золотых предметов (РФА).
Первоначально курган был датирован раннесакским периодом, в предполагаемом хронологическом отрезке VII—VI вв. до н.э. Проведенный весной 2023 г. радиоуглеродный анализ позволяет скорректировать указанную дату памятника.
В лаборатории 14С Хронологии Вильнюса, Литва, был проведен радиоуглеродный анализ (табл. 1) по двум костным образцам.
В том числе, образец 1 был подготовлен из фрагмента нижней челюсти человека, найденного в заполнении могилы, на глубине 0,35 м от уровня древнего горизонта; образец 2 получен из фрагмента кости животного, лежавшей в центральном секторе насыпи, на глубине 0,6 м от ее верха.
Таблица 1. AMS 14C даты проанализированных образцов из кургана 1 могильника Кызылжартас (Центральный Казахстан). Кости человека и животного.
Лаборатория 14С Хронологии, Вильнюс, Литва
|
№ п/п |
шифр |
Номер образца |
14C BP |
Калибровка Сигма 1 (1 σ 68,3) |
Калибровка Сигма 2 (2 σ, 95,4) |
|
1 |
FTMC-EU78-8 |
образец 1 |
2617±28 |
CalBC 808—789 (63, 3) |
Cal BC 819—773 (95,4) |
|
2 |
FTMC-EU78-9 |
образец 2 |
1629±29 |
CalAD 410—438 (29, 5) 462—477 (11, 8) 498—532 (27) |
CalAD 384—541 (95,4) |
Дата образца 1, полученного из человеческой челюсти, указывают на конец IX — первую четверть VIII вв. до н.э. Это дата погребения в этом кургане.
Авторы полагают, что дата образца 2 связана со периодом ограбления кургана. Важно учесть то обстоятельство, что кость животного найдена в грабительском вкопе. Получение дат по образцам из разных мест насыпи, из разных секторов курганного пространства имеет свою непереходимую актуальность.
Что касается даты данного образца, — по-видимому, курган был ограблен в период конца IV — середины VI вв. до н.э.
Золотые украшения относятся к раннесакской эпохе, в чем вряд ли нужно сомневаться. Изделия как в форме прямоугольных обойм, так и спиралей (Бейсенов 2021а: рис. 6) хорошо известны из курганов раннесакской эпохи.
Так же и с пробностью золотых изделий. Два проанализированных предмета из кургана 1 могильника Кызылжартас показали высокую пробность: прямоугольная обойма (Бейсенов 2021а: рис. 6: 2) — 847, спираль (Бейсенов 2021а: рис. 6: 4) — 913.
Судя по материалам исследования Талды-2 (Бейсенов и др. 2011) и других могильников Центрального Казахстана (Кузнецова, Тепловодская 1994) высокая проба характерна для золотых украшений именно раннесакского периода, когда чаще использовалось самородное золото, как и близкоповерхностные россыпи. Об этом же говорят результаты исследования материалов элитных курганов раннесакской эпохи Восточного Казахстана (Толеубаев 2018).
В 2022—2023 гг. были проведены металлографические, химический анализы железного топора из Кызылжартаса. Результаты проведенных исследований впервые представлены в настоящей статье.
МАИАСП № 15. 2023
Материалы и методы
Железный топор представляет собой уникальную находку: подобный предмет в Казахстане найден впервые. Длина изделия 21, 3 см, вес 1,7 кг. Как показали результаты металлографии, в определении его даты Новое время исключается, топор древний. Все результаты, приведенные ниже, были получены в Институте металлургии и обогащения, Сатпаев университета (Алматы, Казахстан).
Поверхность топора затронута сильной коррозии с формированием широкого слоя коррозионных отложений с рыхлой структурой. Структура топора, его металл, в хорошей сохранности.
Запланированные металлографические, химический анализы, а также определение твердости по шкале Виккерса связаны с разрушающими поверхность изделия методами, такими, как шлифовка (подготовка шлифов), резка, сверление, поэтому для исследования была обозначена «тыльная сторона» топора.
Для этого боковая поверхность орудия, которая при положении топорища горизонтально-справа оказалась верхней (рис. 1: а), была взята в качестве «лицевой», а противоположная — «тыльной» (рис. 2: а). На «тыльной» стороне проводились указанные операции.
Следует сказать, что повреждения действительно оказались существенными, но неизбежными, если учесть прямую необходимость в проведении данных исследований. Рассматриваемый топор не только представляет первую находку такого типа в Казахстане, но также входит в категорию абсолютно неизученных орудий не только в Казахстане, но и в сопредельных регионах.
Топор имеет «крестообразную» форму благодаря двуплановому расположению двух лезвий. Продольное лезвие, параллельное топорищу, было обозначено как лезвие 1, поперечное, перпендикулярное топорищу — как лезвие 2. В целом, такое расположение двух рабочих краев данного орудия напоминают те металлические орудия, в отношении которых в литературе нередко применяются такие термины, как «топор-тесло», «топор-кирка» и др. (Клочко, Козыменко 1994; Рындина 1971).
Форма и ширина, или «высота» (Кореневский 1973), лезвий различные. Лезвие 1 (рис. 1: а, 2: а) имеет характерную для топоров скошенную, слева-направо и сверху-вниз, форму, линия дуговидная (рис. 1: 3). Ширина лезвия 5,4 см. Лезвие 2 (рис. 1: b, 2: b) первоначально имело полукруглую форму, характерную для таких орудий, как тесла. Один край лезвия поврежден в древности (рис. 1: 4). Ширина лезвия 4,6 см.
В середине, в районе проушины, орудие имеет подквадратное сечение. Боковая ширина, т.е.. на «лицевой» стороне (рис. 1: а) — 4,3 см. Ширина этого участка со стороны спинки (рис. 1: b) — 4,7 cм.
Проушина топора в сечении круглая. В области проушины имеется хорошо заметное расширение, что указывает на то, что ее получали путем прошивки в процессе ковки топора, т.е. традиционным для древних эпох методом: с использованием пробойника, вгорячую, вероятно, при температуре ковки около 900 ° С.
Размеры проушины со стороны брюшка (рис. 2: b): D1, по длиной оси орудия, — 3,1 см; D2, перпендикулярно длины орудия, — 3,3 см. Размеры проушины со стороны спинки (рис.1: b): D1 — 3,1 см; D2 — 3,3 см.
Расстояние от проушины, т.е., от края отверстия, до края лезвия 1 – 8,1 см. Расстояние от противоположного края отверстия до края лезвия 2 — 10,1 см. Таким образом, проушина расположена с заметным отклонением в сторону лезвия 1, что, в свою очередь, говорит о том, что центр тяжести орудия также смещен по направлению к нижнему рабочему краю. Говоря иначе, основным рабочим участком данного орудия являлся именно лезвие 1, или нижний край.
МАИАСП № 15. 2023
могильника Кызылжартас …
Топор исследовали следующими методами: металлографического анализа с травлением; элементного анализа пробы методом ЭДС с участка; анализа на содержание серы и углерода; измерения твердости по шкале Виккерса. На первом этапе были выполнены осмотр и обследование, а также описание изделия, пробоподготовка. Места исследования показаны на рис. 2.

Рис. 2. Места исследования топора: А — исследование микроструктуры, измерение твердости по Виккерсу (I, II, III); анализ химического состава (IV); место вырезки для исследования микроструктуры по сечению и микрозондового анализа неметаллических включений в структуре металла (V), из которого изготовлен топор: B — зоны с различной структурой на участке II; C — место вырезки фрагмента металла из лезвия топора (стрелкой указана поверхность вырезанного образца).
Fig. 2. Axe research locations: A — microstructure study, Vickers hardness measurement (I, II, III); chemical composition analysis (IV); place of cutting to study the cross-sectional microstructure and microprobe analysis of non-metallic inclusions in the structure of the metal (V) from which the axe is made: B — zones with different structures in area II; C — place of cutting a metal fragment from an axe blade (the arrow indicates the surface of the cut sample).
МАИАСП № 15. 2023
Определение химического состава металла, из которого изготовлен топор
Определение химического состава проводили на образце стружки, взятой путем высверливания с участка IV, показанного на рисунке 2: А. Полуколичественный микрозондовый анализ проводили на микрозондовом анализаторе JEOL JXA-8230. Анализ был осуществлен путем сканирования с участка. Исследованию подвергали поверхность стружки, расплющенной на наковальне.
Содержание углерода и серы определяли на экспресс-анализаторе G4 ICARUSTF (сертификат о поверке № ВА-11-19-0616 от 16.09.2020) по ГОСТ 22536.1-88 и ГОСТ 22536.2-87 соответственно. Результаты определения химического состава образца обобщены в табл. 2.
Таблица 2. Содержание серы и углерода в составе железа
|
Наименование образца |
Химический состав, mas.% |
||||||
|
Fe |
С |
Si |
Ca |
Al |
O |
S |
|
|
Топор |
ост. |
0,097 |
0,06—0,3 |
0,05—0,1 |
0,07—0,18 |
2,75 |
0,005—0,028 |
На основании полученных данных можно заключить, что на участке IV (рис. 2: А) по химическому составу металл топора соответствует железу, в состав которого входит незначительное количество углерода и серы.
Отсутствие легирующих элементов, традиционных для современных сталей, таких как Mn, Ni и др., указывает на то, что металл топора получен не по традиционной схеме, включающей выплавку и последующую обработку давлением.
Малые примеси Si, Ca, Al и O наиболее вероятно являются микрочастицами оксидов этих металлов, перешедших в структуру металла из руды.
Металлографический анализ структуры металла топора
Исследование структуры металла, из которого изготовлен топор, осуществляли после шлифовки и полировки участков I, II, III, указанных на рис. 2: А. Исследование проводили на металлографической рабочей станции на базе инвертированного микроскопа Leica DM IRM при увеличениях от 50 до 1000 крат.
Неметаллические включения изучали до травления, структуру металла — после травления. Для выявления структуры использовали химическое травление реактивом: раствор 1г FeCl 3 и 1,5 мл HCl в 100 мл этилового спирта.
Для выявления структуры зерен феррита использовали реактив — раствор бисульфида натрия 20 г на 100 мл воды. Травление осуществляли протиранием ватным тампоном.
Структура всех исследованых областей топора имеет многочисленные неметаллические шлаковые включения (рис. 3: 1, 2) различных размеров.
Количество шлаковых влючений на разных участках топора сильно различается. Так, на участках топора I и III доля включений достигает 6,2% и 9,73%, существенно превосходит наблюдаемую на участке II (1,37%).
Размер включений от 1 мкм и до 150 мкм, а на участке III размер включений достигает 2000 мкм в длину. Крупные шлаковые включения имеют вытянутую форму, а включения размером до 10 мкм сферическую.
Это указывает на то, что в процессе изготовления топор подвергался несущественной пластической деформации. На участке III имеются трещины, ориентированные от лезвия 2 к проушине, на других участках микротрещины не обнаруживаются.
МАИАСП № 15. 2023
Железный топор из тасмолинского кургана могильника Кызылжартас …

Рис. 3. 1, 2 — шлаковые включения в структуре металла топора на участке I. 1 — ×100; 2 — ×1000. 3, 4 — зерна, частицы крицы и высокодисперсные неметаллические включения в структуре зерен железа на участке I. 3 — ×500; 4 — ×1500.
Fig. 3. 1, 2 — slag inclusions in the structure of the metal of the axe in section I. 1 — ×100; 2 — ×1000. 3, 4 — grains, iron ball particles and highly dispersed non-metallic inclusions in the structure of iron grains in section I. 3 — ×500; 4 — ×1500.
Высокое содержание и неоднородное распределение неметаллических включений существенно снизило пластичность металла топора, по этой причине при ударе лезвий топора не происходила деформация металла, а формировались трещины и последующие сколы. Это вызывало постепенное их разрушение.
На участке I в центральной части топора структура металла однофазная, образованная равноосными зернами железа полиэдрической формы (рис. 3: 3). Размер зерен 75—200 мкм. В структуре отдельных зерен имеются двойники. На отдельных участках границы зерен плохо сформированы и зерна плохо различаются по контрасту. На этих участках достаточно хорошо проявляются частицы крицы, размер которых составляет 0,8—1,5 мкм (рис. 3: 4).
На участке II структура не однородная. В структуре обнаруживаются шлаковые включения, аналогичные наблюдаемым на участке I. При исследовании лезвия топора выявлены зоны с различной структурой, указывающие на изменение содержания углерода в них (рис. 2: B). На удалении от лезвия (рис. 2: B, зона 1) структура однофазная, образована полиэдрическими равноосными зернами (рис. 4: 1). Размер зерен колеблется от 100 мкм до
МАИАСП № 15. 2023
500 мкм, в местах скопления шлаковых включений зерна более однородны — 80—150 мкм.
Такая структура характерна для железа с содержанием углерода < 0,08 мас.%.

Рис. 4. 1, 2 — Различие микроструктуры на поверхности и вблизи с поверхностью лезвия топора. 1 — зона 1 на рис. 2: B (×500); 2 — зона 3 на рис. 2: B (×1000). 3, 4 — структура прозрачных неметаллических включений в сечении топора (1 — железо; 2 — поверхность топора; 3 — древовидное неметаллическое включение; 4 — газовая пора; 5 — выход неметаллического включения на поверхность лезвия топора). 3 — ×50; 4 — ×200.
Fig. 4. 1, 2 — Difference in microstructure on the surface of the axe blade. 1 — zone 1 in Fig. 2: B (×500); 2 — zone 3 in Fig. 2: B (×1000). 3, 4 — structure of transparent non-metallic inclusions in the cross-section of the axe (1 — iron; 2 — surface of the ax; 3 — tree-like non-metallic inclusion; 4 — gas pore; 5 — release of a non-metallic inclusion onto the surface of the axe blade). 3 — ×50; 4 — ×200.
В зонах 2, 3 и 4 (рис. 2: B) структура феррито-трооститная и трооститная с выделением вторичного цементита (рис. 4: 2). Зоны 2 и 3 представляют собой области с нечеткими границами размером 10 × 8 и 17 × 11 мм. В пределах этих зон количество троостита меняется от 0 до 100%, а в зоне 3 на отдельных участках по границам зерен троостита выделяется вторичный цементит (карбид железа). В соответствии с диаграммой состояния системы Fe-C, это указывает на то, что в пределах зоны 2 концентрация углерода меняется от 0,08 до — 0,8 %, а в пределах зоны 3 от 0,08 до — 1,0 %. Троостит имеет пластинчатую структуру, невидимую в оптический микроскоп, но при травлении окрашивающийся в темно-коричневый цвет. В структуре зон 2 и 3 обнаруживаются точечные
МАИАСП № 15. 2023
могильника Кызылжартас …
локальные области, которые после травления приобретают черный цвет. С наибольшей вероятностью это указывает на то, что в этих местах существенно повышено содержание углерода.

Рис. 5. Структура неметаллических включений и металла вырезки из лезвия топора: 1 — единичная трещина в прозрачном неметаллическом включении, поверхность (×50); 2 — зоны с различной микроструктурой по сечению лезвия топора; 3, 4 — анализируемые неметаллические включения (1 — металл; 2 — неметаллическое включение; 3 — трещина (×100)).
Fig. 5. Structure of non-metallic inclusions and metal of cuttings from an axe blade: 1 — single crack in a transparent non-metallic inclusion, surface (×50); 2 — zones with different microstructures along the crosssection of the axe blade; 3, 4 — analyzed non-metallic inclusions (1 — metal; 2 — non-metallic inclusion; 3 — crack (×100)).
Зона 4 образована однородным мелкозернистым трооститом, в структуре которого присутствуют полупрозрачные светлые неметаллические твердые включения. Для изучения природы этих включений посредством микрозондового анализа, а также оценки изменения структуры по сечению топора была произведена вырезка фрагмента металла на участке V (рис. 2), что соответствовало зонам 3 и 4, указанным на рис. 2: B. Выемка, образовавшаяся после вырезки приведена на рис. 2: С.
Удачно подобранное место вырезки образца позволило изучить не только изменение структуры металла по мере удаления вглубь от поверхности, но и изучить конфигурацию прозрачного неметаллического включения. Как оказалось, форма прозрачного включения не
МАИАСП № 15. 2023
компактная, а древовидная с множеством ответвлений (рис. 4: 3). Также в структуре, под поверхностью выявлены аналогичные отдельно расположенные дисперсные неметаллические включения (рис. 4: 4).
Такая форма неметаллического включения, указывает на то, что в процессе ковки оно находилось в жидком или полужидком состоянии. В результате ковки вещество этого включения выдавливалось на поверхность топора, а вместе с ним и выходили газовые пузыри. Поскольку неметаллическое включение по всему сечению имеет только одну трещину (рис. 5: 1), то можно заключить, что процесс ковки топора завершался выше температуры кристаллизации вещества, из которого оно состоит. В противном случае наблюдались бы трещины по всему объему этого включения, особенно в местах, где толщина их наименьшая.
Между тем, наличие отдельных дисперсных неметаллических включений, указывает на то, что кузнецу в процессе ковки не удавалось полностью их удалить из структуры металла. Это является основным недостатком такой технологии получения железных изделий.
Исследование микроструктуры вырезки показало, что она характеризуется существенной неоднородностью (рис. 5: 2). Под поверхностью, как и на поверхности, обнаруживаются зоны со структурой троостита (рис. 6: 4), феррита (рис. 6: 2) и смеси феррита и троостита (рис. 6: 1, 3), что свидетельствует об изменении содержания углерода на разных участках от 0,2 до 0,8 мас.%.
Такое изменение структуры по сечению лезвия топора указывает на то, что наблюдаемая на поверхности неоднородность структуры не связана с ее науглераживанием. В случае диффузионного проникновения углерода вглубь железа в процессе выдержки поковки в раскаленном древесном угле на поверхности и небольшом расстоянии от нее наблюдался бы сначала троостит, затем смесь троостита и феррита и следом феррит.
Поскольку в соответствии с структурой вблизи с поверхностью (зона I) в исследуемом участке содержание углерода составляет ∼ 0,5—0,6 мас.%, затем имеется область (зона II) с содержанием углерода 0,2—0,3 мас.% и следом за ней зоны III и IV, где содержание углерода достигает 0,6—0,7 мас.%С и 0,8 мас.%С соответственно, то причиной такого распределения не может стать диффузия углерода.
Это указывает на то, что при изготовлении топора кузнец намеренно использовал куски железа с более высоким содержанием углерода.
Такая процедура была возможна только в случае, если на первом этапе получали восстановленное железо в виде порошка и гранул, а затем, на втором этапе, проводили его спекание и на третьем этапе выполняли пластическую деформацию спеченной заготовки.
Спекание могли проводить в глиняных формах, имеющих внутреннюю полость, близкую к изделию. При этом кузнец на втором этапе в области лезвий мог закладывать порошок (гранулы), который по его опыту был более твердым.
Исследование лезвия 2 (участок III на рис. 2: А) показало, что оно также имеет неоднородную структуру металла (рис. 6: 5). В структуре имеются шлаковые включения, аналогичные наблюдаемым на участке I (рис. 2: А), но преимущественно дисперсные. Непосредственно кончик лезвия (зона 2, рис. 6: 5) образован металлом с феррито-трооститной структурой.
От кончика лезвия эта зона распространяется на расстояние 7 мм. Содержание троостита в ней достигает ∼ 34%. Зона 1 (рис. 6: 5) лезвия имеет однофазную структуру, образованную железом.
В структуре слабо проявляются границы зерен, что указывает на то, что период отжига и ковки были недостаточны для рекристаллизация металла. В зоне 1 имеются 2 локальных участка размером 1,5—2 мм, со структурой феррита и троостита. В структуре лезвия в процессе эксплуатации топора вследствие удара о твердый материал (наиболее вероятно камень) возникли трещины, что указывает на низкую пластичность металла.
могильника Кызылжартас …
МАИАСП № 15. 2023

Рис. 6. 1—4 — микроструктура в зонах, приведенных на рис. 5: 2. 1 — зона I; 2 — зона II; 3 — зона III; 4 — зона IV; 5 — зоны с различной структурой на участке III топора (рис. 2).
Fig. 6. 1—4 — microstructure in the zones shown in Fig. 5: 2. 1 — zone I; 2 — zone II; 3 — zone III; 4 — zone IV; 5 — zones with different structures in section III of the axe (Fig. 2).
Наличие в структуре лезвий топора троостита и феррита и отсутствие мартенсита указывает на то, что на финальном этапе термической обработки топор нагревали до 750— 780 ° С и затем его быстро охлаждали, возможно на воздухе.
№ 15. 2023
Измерение твердости металла по шкале Виккерса
Измерение твердости проводилось методом Виккерса HV по СТ РК ИСО 6506-1-2010 при помощи твердомера HBV-30А при нагрузке 10 кг.
Определение твердости на поверхности образца выполняли путем не менее 10 измерений на каждом из 3-х участков топора и их отдельных зон в соответствии с рис. 2. Результаты измерения твердости на различных участках топора приведены в табл. 3.
Таблица 3. Твердость по Виккерсу HV10 на участках поверхности топора согласно рис. 2
|
Участок I |
Участок II |
Участок III |
|||||
|
зона 1 |
зона 2 |
зона 3 |
зона 4 |
зона 1 |
зона 2 |
||
|
Твердость по Виккерсу, HV10 |
120 + 48 |
74+23 /4 - 32 |
224+37 224 - 40 |
360 + 89 |
540 |
245 + 10 |
347 - 712 |
В соответствии с полученными результатами участки, имеющие однофазную структуру железа, имеют твердость HV10 42—255 единиц. Такое различие твердости объясняется различной степенью обработки давлением, неоднородным распределением шлаковых включений. На участках с феррито-трооститной и трооститной структурой твердость HV10 достигает 459 единиц, а в зоне с трооститной структурой 540 единиц.
Микрозондовый анализ неметаллических включений, обнаруженных на участке II
Определение состава неметаллических включений на участке II (рис. 2) проводили методами энергодисперсионного (EDS) и волнодисперсионного (WDS) микрозондового анализа на анализаторе JEOL JXA-8230. Проведен точечный анализ и получены данные о распределении элементов вблизи с анализируемым включением.
Два типичных неметаллических включения, различающихся фазами, сформировавшимися на поверхности раздела приведены на рис. 5: 3, 4.
Таблица 4. Состав прозрачных неметаллических включений и фаз на их поверхности раздела в точках, указанных на рис. 5: 3, 4
|
№ точки |
O |
Al |
Si |
Ca |
Cr |
Fe |
Ni |
Na |
Mg |
K |
Ti |
S |
|
1 |
5,05 |
0,53 |
1,1 |
0,73 |
15,7 |
69,58 |
7,31 |
|||||
|
2 |
0,57 |
2,14 |
0,81 |
17,11 |
71,53 |
7,9 |
||||||
|
3 |
51,17 |
5,48 |
22,68 |
11,78 |
1,83 |
3,26 |
3,8 |
|||||
|
4 |
52,66 |
5,36 |
21,78 |
10,71 |
1,75 |
0,65 |
3,36 |
3,43 |
0,21 |
|||
|
5 |
31,46 |
0,28 |
68,01 |
0,25 |
||||||||
|
6 |
35,67 |
0,42 |
63,63 |
0,28 |
Анализ химического состава в точкаках, указанных на рис. 5: 3, 4 показал, что полупрозрачные включения, обнаруженные в острие на участке II (рис. 2) являются оксидными соединениями, содержащими Si, Ca, Mg, Al, K, Fe.
Наиболее вероятно, что они являются включениями, образовавшимися вследствие сплавления глинистых минералов, таких как гиролит, корренсит, кальцит и др. Поскольку их поверхность имеет очевидные следы оплавления, то можно заключить, что они попали в структуру металла на стадии его получения из железной руды. Подтверждением этому
МАИАСП № 15. 2023
Железный топор из тасмолинского кургана могильника Кызылжартас … является включение оксида железа в структуре неметаллического включения (точки 5 и 6 на рис. 5: 4 и в табл. 4).
Крайне интересным является то, что на поверхности (между железом и включением) другого анализируемого включения (рис. 5: 3, 4 и точки 1 и 2 в табл. 4) обнаружены слабоокисленные участки, содержащие высокую концентрацию Fe, Ni, Cr.
Заключение
Химический состав металла топора указывает, что он изготовлен из железа, полученного кричным способом. Об этом свидетельствует малое количество углерода 0,097 и отсутствие легирующих элементов, а также присутствие примесей Al, Ca, Si перешедших в структуру металла в виде оксидов из железной руды.
В структуре топора присутствует большое количество шлаковых включений, достигающее на отдельных участках 9,7%. Неоднородное распределение таких включений, вытянутая форма крупных, но сферическая у мелких включений позволяет заключить, что в процессе изготовления различные участки топора подвергались неравномерной пластической деформации. Наибольшей пластической деформации подвергался клинок (лезвие 1), в структуре которого содержание шлаковых включений не превышает 1,37%. Высокое количество неметаллических включений со стороны лезвия 2 привело к его растрескиванию в процессе эксплуатации топора.
Обнаруженные в лезвии клинка топора (лезвие 1) полупрозрачные неметаллические включения с наибольшей вероятностью являются включениями, образовавшимися вследствие сплавления глинистых минералов, таких как гиролит, корренсит, кальцит и др., входящих в состав железной руды, используемой для получения железа. При ковке материал этих включений находился в жидком или полужидком состоянии, в результате чего они выдавливались из толщи металла по образующимся каналам на поверхность поковки. Однако ковкой в полной мере их не удалось удалить. Процесс ковки завершался при температуре выше температуры начала кристаллизации этих включений, что подтверждается единичными трещинами в их структуре. Следовательно ковка завершалась при температуре выше 1100 ° С. Отсутствие трещин в хрупких неметаллических включениях в острие клинка (лезвия 1) также указывает на то, что топор не подвергался интенсивным динамическим нагрузкам, например для раскалывания руды или камней.
Структура топора характерна для железа, полученного кричным способом. Преимущественно структура зернистая однофазная, в некоторых местах зерна не имеют четких границ, это указывает на то, что при изготовлении топора он не подвергался длительной термической обработке и интенсивной пластической деформации. В структуре зерен феррита в центральной (не рабочей части) присутствуют двойники, вероятно возникшие вследствие термических напряжений, вызванных температурным расширением.
В структуре лезвий топора присутствуют зоны с феррито-трооститной и трооститной структурой с включениями вторичного цементита, это свидетельствует, что в этих зонах содержание углерода варьирует от 0,09 до 1%. Наиболее существенно эти зоны выражены в лезвии 1. Плавный переход от ферритной структуры к трооститной, присутствие множественных точечных участков с повышенным содержанием углерода, отсутствие науглероженного слоя на других участках топора позволяет заключить, что увеличение содержания углерода в лезвиях топора достигалось намеренно в процессе изготовления топора.
Наиболее вероятно, что процесс изготовления топора включал несколько этапов. На первом этапе получали восстановленное железо в виде порошка и гранул (частично спеченных кусочков). На втором этапе проводили спекание железа. На третьем этапе выполняли пластическую деформацию спеченной заготовки. Спекание могли проводить в глиняных формах, имеющих внутреннюю полость, близкую к изделию. При этом кузнец на втором этапе в области лезвий мог закладывать порошок (гранулы), который по его опыту
МАИАСП № 15. 2023
был более твердым. Например, он мог целенаправленно восстанавливать с большим количеством углерода, чем это необходимо, либо в крицу подмешивали углерод в виде толченого древесного угля.
Более высокое содержание углерода в лезвиях топора позволило повысить их твердость в сравнении с основным металлом. Так, твердость металла топора по Виккерсу составляет HV10 42—255 единиц, а твердость HV10 лезвий, упрочненных углеродом достигает 459 единиц, а в зоне с трооститной структурой 540 единиц.
Наличие в структуре лезвий топора троостита и феррита и отсутствие мартенсита и перлита указывает на то, что на финальном этапе термической обработки топор нагревали до 750—780 ° С и затем его быстро охлаждали, наиболее вероятно на воздухе.
От многих железных топоров скифской эпохи, известных в Абхазии, Грузии, Украине и Волго-Камье (Ильинская 1968: 92—93; Погребова 1969: рис. 1—2; Воронов, 1975: рис. 4; Патрушев, Халиков 1982; Скаков 2020: рис. 1) топор из Кызылжартаса отличается двуплановым расположением лезвий. Отдаленной, но прямой аналогией этой находке является железный топор-кирка (pick-head) из Каркемиша, позднехеттское время (Woolley 1969: pl. 23: 1).
Нужно отметить древнейшие литые топоры-тесла (топоры-кирки, топоры-мотыги), имеющие схожие формы, это, в частности, орудия среднего периода трипольской культуры (Рындина 1971: рис. 29: 1, 2; Клочко, Козыменко 2017: илл. 10—14). Топор из Кызылжартаса также может быть назван «крестообразным» по форме, напоминая древнейшие орудия «с поперечным обушком и продольным лезвием» (Рындина 1971: 127). И точно так же он мог быть использован как в качестве боевого топора, так и рабочего инструмента в обработке дерева, в горном деле. При этом, в отношении лезвия 1 анализы не подтверждают интенсивного использования его по твердой поверхности, тогда как лезвие 2 повреждено именно при ударе по твердому материалу (камень, руда).
В отношении хронологии остается эпоха средневековья или же «гуннское время», если обратиться к дате образца 2, связанной, как было сказано, с периодом ограбления кургана. Следует отметить, что как форма, так и массивный облик нашего топора отличает его от аналогичных орудий более поздних периодов. На данном этапе изучения авторы предполагают раннюю дату орудия. По-видимому, топор связан с раннесакской эпохой.
Дальнейшее изучение данного орудия, как и других железных изделий из Центрального Казахстана, актуально в плане понимания многих особенностей такого абсолютно неисследованного направления, как кузнечное производство населения раннего железного века Центральной Евразии.
Недавно полученные результаты металлографического, химического и трасологического анализов железного грифоньего кинжала из Темирши, Центральный Казахстан (Бейсенов и др. 2023), показали, что это орудие также сделано из железной крицы путем ковки и чеканки, но не был отлит из чугуна, как это ранее допускалось в отношении таких изделий. Кинжал из Темирши датируется второй половиной VI—V вв. до н.э.
В кургане 2 из могильника Кызылжартас найдены фрагменты от двух сосудов, выполненных из железных кованых листов (Бейсенов, Шашенов 2022: рис. 2: 3). Курган на основании археологических и радиоуглеродных данных датируется периодом немного поздним, чем кинжал Темирши. Материалы этого кургана, как было уже сказано, готовятся к публикации.
Новые данные из Центрального Казахстана позволяют по-новому взглянуть на материалы поселения эпохи поздней бронзы Кент (Карагандинская область, Центральный Казахстан), где на производственной площадке Алат были открыты, наряду с бронзолитейными, железоварочные печи, сопровождаемые кусками железной руды и железистого шлака. Исследователи дату этого слоя поселения, обозначенного как «верхний», на основании археологических и радиоуглеродных данных определяют XIII в. до н.э. (Жауымбаев и др. 2018: 117; Жауымбай 2020). Поселение Кент в настоящее время является единственным памятником в Казахстане, где открыты железоварочные печи, к тому же столь ранней эпохи.
МАИАСП № 15. 2023
Железный топор из тасмолинского кургана могильника Кызылжартас …
Пожалуй, трудно переоценить значение проведенного недавно группой специалистов исследования происхождения железистых шлаков из Кента и других памятников Южного Урала и Казахстана (Анкушев и др. 2023). Среди целого ряда объектов именно кентские образцы оказались напрямую связанными с производством железа. Судя по заключению специалистов по древней металлургии, «железо на поселении Кент было получено целенаправленно в ходе передела именно железной руды» (Анкушев и др. 2023: 81).
Важно, что специалисты, исследовавшие кентские железистые шлаки, одним из наиболее вероятных источников сырья считают месторождение Кентобе (каз., «кен» — руда, полезное ископаемое, «тобе» — холм, сопка), находящееся всего в 25 км от поселения Кент (Анкушев и др. 2023: 82).
Здесь надо отметить, что речь идет о выделенной геологами многие десятилетия назад «Восточно-Каркаралинском районе» железистых месторождений. Сюда отнесены упомянутый Кентобе, а также целый ряд других близкорасположенных пунктов: Кенказган, Карашокы, Карашошак, Карсы, Жалпак-1, Карашукур, Акшокы. По данным А.Х. Маргулана, работавшим по материалам геологов Г.Д. Романовского, Л.Л. Солодовниковой, А. Сборовского и др., эти выработки на железо находятся в районе гор Беркутты (Бала-Беркутты), Бакты и Мыржык, «на расстоянии от 40 до 110 км» (Маргулан 1972: 14). Основная часть этих выработок находится на относительно близком расстоянии от поселения Кент. Также немаловажны сведения геологов относительно железистых месторождений Центрального Казахстана, локализованных в районе горы Котыр-Кызылтау, с которой напрямую связана долина реки Талды, где исследован могильник Кызылжартас. А.Х. Маргулан, отмечает, что «значительная группа древних выработок на железо сосредоточена в горах Котыр-Кызылтау и Манатау» и называет такие пункты, как Уста, Темир, Каратемир, Алабуга (Маргулан 1972: 15). Такие же сведения имеются и в отношении горы Темирши, с которой связана находка вышеуказанного железного грифоньего кинжала (Бейсенов и др. 2023). Такие сведения геологов, работавших в Центральном Казахстане начиная еще с царской эпохи, остаются востребованными и в наши дни.
Следует добавить к сказанному выше еще одну уникальную находку из Центрального Казахстана. Речь идет о небольшом орудии из могильника бегазы-дандыбаевской культуры Сангыру-1, датирующегося серединой II тыс. до н.э. Орудие представляет собой «инструмент ювелира» с бронзовой ручкой и железным наконечником. Недавние исследования состава двух частей этого изделия показали, что наконечник сделан из метеоритного железа (материал готовится к печати). Таким образом, исследование древнего железа Центрального Казахстана предполагает хорошую перспективу в данном направлении.
Список литературы Железный топор из Тасмолинского кургана могильника Кызылжартас: результаты металлографического и химического анализов
- Анкушев и др. 2023: Анкушев М.Н., Алаева И.П., Анкушева П.С., Артемьев Д.А., Блинов И.А., Варфоломеев В.В., Пантелеева С.Е., Петров Ф.Н. 2023. Природа некоторых железосодержащих артефактов Урало-Казахстанского региона в позднем бронзовом веке. Вестник археологии, антропологии и этнографии 3, 72—87.
- Бейсенов А.З. 1995. К вопросу о выделении памятников коргантасского типа в Восточной Сарыарке (вторая половина — конец 1 тыс. до н.э.). В: Толеубаев А.Т. (отв. ред.). Этнокультурные процессы на территории Казахстана (древность, средневековье, современность). Алматы: Санат, 55—61.
- Бейсенов А.З. 2017. Коргантасские погребения в Центральном Казахстане. В: Базаров П.В., Крадин Н.Н. (отв. ред.). Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: материалы 2 международной научной конференции, посвященной 80-летию д.и.н., проф. П.Б. Коновалова. Улан-Удэ: Бурятский госуниверситет, 103—108.
- Бейсенов А.З. 2018. Тасмолинская культура Центрального Казахстана в исследованиях начала XXI века. АД1У 2, 386—396.
- Бейсенов А.З. 2021а. Тасмолинский курган с каменными изваяниями в могильнике Кызылжартас. В: Смирнов Н.Ю. (отв. ред.). Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии: Сборник научных статей, посвященный 80-летию профессора Дмитрия Глебовича Савинова и 60-летию его труда на ниве отечественной науки. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 261—277 (Труды ИИМК РАН LVII).
- Бейсенов А.З. 2021б. Тасмолинское каменное изваяние в урочище Аумаган, Центральный Казахстан. УАВ. Т. 21. № 1, 21—37. DOI: https://doi.Org/10.31833/uav/20216.21.1.002.
- Бейсенов А.З., Ермоленко Л.Н. 2014. Новые каменные изваяния сакского времени из Сарыарки. Вестник КемГУ. № 3 (59). Т. 3, 36—40.
- Бейсенов и др. 2011: Бейсенов А.З., Таиров А.Д., Зайков В.В., Блинов И.А. 2011. Состав золотых изделий из могильника Талды-2. В: Бейсенов А.З. (отв. ред.). Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов Международного Круглого стола, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан. Караганда, 23—25 ноября 2011 г. Караганда: ТОО НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 21—25.
- Бейсенов и др. 2021: Бейсенов А.З., Ломан В.Г., Шашенов Д.Т. 2021. Керамика из новых курганов тасмолинской культуры. НАВ. Т. 21. № 1, 6—20. DOI: https://doi.Org/10.15688/nav.jvolsu.2022.1.1.
- Бейсенов и др. 2023: Бейсенов А.З, Паничкин А.В., Горащук И.В., Шашенов Д.Т. 2023. Кинжал иссыкского типа из Темирши, Центральный Казахстан: результаты металлографического, химического и трасологического анализов. Stratum plus 3, 255—265. DOI: https://doi.org/10.55086/sp233255266.
- Бейсенов А.З., Шашенов Д.Т. 2022. Археологические исследования на могильнике Кызылжартас в 2021 г. В: Касеналин А.Е. (отв. ред.). Археологические исследования в Казахстане 2021. Астана: Национальный музей РК, 228—234 (на каз. яз.).
- Воронов Ю.Н. 1975. Вооружение древнеабхазских племен в VI—I вв. до н. э. В: Тереножкин А.И. (отв. ред.). Скифский мир. Киев: Наукова думка, 218—234.
- Ермоленко Л.Н. 2018. Каменные изваяния раннего железного века в западной части азиатских степей. В: Бобров В.В. (отв. ред). Очерки первобытного искусства Южной Сибири и Центральной Азии (скифская эпоха). Кемерово: КемГУ, 99—113.
- Жауымбай С.У. 2020. Начало освоения железа в Казахских степях в эпоху поздней бронзы (производственно-металлургический центр Алат в Сарыарке). Мир Большого Алтая 6, 820—841.
- Жауымбаев С.У., Кукушкин А.И., Дмитриев Е.А. 2018. История изучения производствнно-металлургического комплекса Алат (эпоха поздней бронзы). Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета 1, 114—119.
- Касенова А.Д. 2019. История изучения древних и средневековых каменных изваяний Сарыарки. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово.
- Клочко В.И., Козыменко А.В. 2017. Древний металл Украины. Киев: Институт археологии.
- Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М. 1994. Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана. Алматы: Гылым.
- Кореневский Н.С. 1973. Металлические втульчатые топоры Уральской горно-металлургической области. СА 1, 39—51.
- Кушакова Н.А., Чугунов К.В. 2010. Погребальный комплекс с черепами животных в Центральной Туве. В: Цыбиктаров А.В. (отв. ред.). Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Удэ: Бурятский госуниверситет, 148—156.
- Маргулан А.Х. 1972. Горное дело в Центральном Казахстане в древние и средние века. В: Акишев К.А. (отв. ред.). Поиски и раскопки в Казахстане. Алматы: Наука, 3—30.
- Патрушев В.С., Халиков А.Х. 1982. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). Москва: Наука.
- Погребова М.Н. 1969. Железные топоры скифского типа в Закавказье. СА 2, 179—188.
- Рындина Н.В. 1971. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. Москва: МГУ.
- Скаков А.Ю. 2020. Железные боевые топоры раннего железного века Северного Закавказья и их аналогии в соседних регионах. В: Деревянко А.П., Макаров Н.А, Мочалов О.Д. (отв. ред.). Труды VI (XII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. Самара: СГСПУ, 113—115.
- Толеубаев А.Т. 2018. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: ИП Садвокасов.
- Шульга П.И. 2015. О захоронениях коргантасского типа. В: Бейсенов А.З. (отв. ред.). Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Алматы: НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 405—418.
- Woolley C.L. 1969. Carchemish. Pt. II. The Town Defences. London: British Museum.