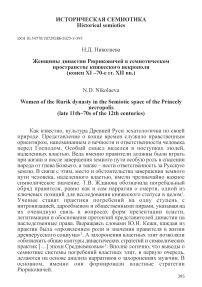Женщины династии Рюриковичей в семиотическом пространстве княжеского некрополя (конец XI –70-е гг. XII вв.)
Автор: Николаева Н.Д.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Историческая семиотика
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи состоит в определении места и роли женщин– представительниц династии Рюриковичей в семиотической системе погребений конца XI – 70-х гг. XII вв. Новизна заключается в обращении к системе женских погребений династии как к самостоятельному объекту исследования на основании двух ключевых тезисов – о женщинах как принципиально значимой части матримониальных стратегий властных элит Средневековья и о крайней избирательности русского книжника в вопросе об упоминании мест и обстоятельств женских захоронений. В данном исследовании производится анализ нарративов о представительницах династии, которые являлись женами или дочерями князей киевских. В статье осуществлена выборка представительниц династии Рюриковичей, места захоронений которых упомянуты в летописи, в рамках означенной хронологии и географии; сделано первичное разделение упоминаний на две большие группы – захоронения в семейных монастырях и в обителях, не имевших статуса семейных усыпальниц; проанализирован отдельно каждый случай внутри больших групп. На основании анализа был сделан ряд итоговых выводов. Летописец упоминал о местах захоронения представительниц династии Рюриковичей в нетривиальных случаях с точки зрения средневековой морали и системы мировосприятия. Это были примеры нарушения функционирования одного из ключевых институтов средневекового общества – системы матримониальных связей. Чаще всего, эти прецеденты встраивались в актуальную политическую повестку эпохи, где роль женщины – представительницы династии становилась принципиально значимой в плане символического закрепления властных претензий той или иной ветви Рюриковичей.
Рюриковичи, матримониальные союзы, полицентризм, XII век, легитимация власти, семиотика погребений, династические стратегии
Короткий адрес: https://sciup.org/149149228
IDR: 149149228 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-395
Текст научной статьи Женщины династии Рюриковичей в семиотическом пространстве княжеского некрополя (конец XI –70-е гг. XII вв.)
Women of the Rurik dynasty in the Semiotic space of the Princely necropolis
(late 11th–70s of the 12th centuries)
Как известно, культура Древней Руси эсхатологична по своей природе. Представление о конце времен служило нравственным ориентиром, напоминанием о вечности и ответственности человека перед Господом. Особый смысл виделся в поступках людей, наделенных властью. Ведь именно правители должны были играть при жизни и после завершения земного пути особую роль в спасении народа от гнева Божьего, а также – нести ответственность за Русскую землю. В связи с этим, место и обстоятельства завершения земного пути человека, наделенного властью, имели чрезвычайно важное символическое значение. Т.В. Жданова обозначила погребальный обряд правителя, равно как и сам нарратив о смерти, одной из ключевых позиций для исследования княжеского статуса в целом1. Ученые ставят практики погребений на одну ступень с интронизацией, дарообменом и общественными пирами, указывая на их очевидную связь в вопросах форм презентации власти, легитимации и обоснования претензий представителей династии на наследственные права. Выражаясь словами Ю.Н. Кежи, каждая из практик была «проявлением роли и значения правителя в жизни древнерусского социума»2. А захоронения властных элит позволяли «обозначить общие контуры династических стратегий и символических практик […] эпохи Средневековья»3. Вполне логично, что выводы о семиотике системы погребений властных элит, в первую очередь, делаются на основе анализа нарративов о захоронениях мужчин. В основном, именно они формировали властные стратегии Рюриковичей.
Однако, на наш взгляд, следует обратиться к проблеме места в семиотической системе погребений женщин династии. Они являлись неотъемлемой частью системы брачного института и матримониальных планов. Как справедливо отмечено А. Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенским, кровное родство априори не могло быть предметом сознательного выбора, родство же по браку подразумевало выбор, который предполагал его превращение в последующих поколениях в кровную связь, предопределявшую судьбу наследников и потомков4. Кроме того, захоронения представительниц династии Рюриковичей редко удостаивались внимания летописца, и именно этим данные сведения ценны. Средневековый книжник, создавая свой нарратив, стремился вписать в него только ключевые позиции, что было связано с особым характером древнерусской литературы. Ее задача состояла в том, чтобы показать, как выбрать правильный земной путь, ведущий к посмертному спасению души. В этом контексте справедливо замечание А.Н. Ужанкова: в восприятии древнерусского книжника «“познание” мира сводилось к Богопознанию […] “познание” мыслится не как постижение сущности Бога, […] а выявление смысла, который имеет Бог для человека»5.
Относительно хронологических рамок данного исследования также следует сделать несколько замечаний. Нижняя граница будет охватывать рубеж XI–XII вв.; верхняя – завершаться рубежом 1160-70х гг. Рубеж XI –XII вв. – время начала трансформации погребальных практик властных элит Руси, которые будут происходить на протяжении всего XII столетия. В этот период усложняется система княжеских погребений – расширяется их география и развивается храмовое и монастырское строительство, изначально предназначенное для выполнения функций семейных усыпальниц. В XII в. только в Киеве и его окрестностях такой статус получили, к примеру, Андреевский (Янчин), Михайловский Златоверхий, Берестовский, Кирилловский монастыри. Данные археологических раскопок на средневековых русских памятниках XII в., выражаясь словами Т.Е. Самойловой, «демонстрируют резкую смену архетипа в области мемориальных сооружений»6: арко-солии – арочные ниши для установки саркофагов – сразу планируются при возведении сакральной постройки. Такие планировки В. В. Седов связал со складывавшимся на Руси XI-XII вв. культом «святых» или «блаженных» князей, по причине которого останки усопших политических лидеров уподоблялись мощам святых. Исследователь рассматривает погребения князей как некий идеологический механизм, связывающий власть князя с божественным порядком7. Данные процессы можно обозначить, как «христианизация» княжеского погребального обряда, что вполне соответствует тенденциям эпохи. С одной стороны, речь идет о распространении христианства в Русских землях. Как отмечает Д.Г. Хрусталев, именно в XII в. на Руси увеличивается число епархий и наблюдается систематическая политика князей по усилению церковной организации путем каменного храмового строительства на Руси, в которой ключевую роль принадлежит Владимиру Мономаху8. С другой – в условиях усиливавшихся процессов децентрализации Руси возрастала необходимость в дополнительных средствах легитимации власти представителей той или иной ветви Рюриковичей, коими и стали практики погребения. В первую очередь, означенные выше тенденции проявляли свое действие в среде великих киевских князей, стоявших у «руля» власти. И именно женщинам, связанным с великокняжеским престолом, будет посвящено данное исследование.
Определившись с географией и говоря о верхней хронологической границе, нельзя проигнорировать динамику развития самого статуса «великий князь киевский». Литоралью в этом процессе, на наш взгляд, является конец 1160-начало 1170-х гг. Андрей Боголюбский стал тем правителем, который, завладев Киевом и приняв титул «великий князь», не стал править в этом городе лично и даже не передал этот престол своему старшему родственнику или старшему сыну. В этом случае произошло отделение понятия «старшинство» среди князей Рюриковичей от места. Номинально Киев оставался старейшим престолом, однако особый политический вес стали приобретать правители Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской Руси.
Таким образом, цель данного исследования состоит в определении места и роли в семиотической системе погребений Рюриковичей женщин – представительниц династии, являвшихся женами или дочерями князей киевских, время политической активности которых было заключено в хронологических границах конца XI – 70-х гг. XII вв.
Как уже говорилось выше, очень немногие женщины династии были удостоены внимания летописца в вопросе о месте захоронения. Если сужать выборку в рамках означенной хронологии и географии, она будет крайне невелика, и в ней сразу следует отметить одну особенность: ряд представительниц династии были похоронены в семейных монастырях, в то время, как другие нашли свое последнее пристанище в иных обителях, не имевших статуса семейных усыпальниц либо изначально не задумывавшихся таковыми.
Захоронения представительниц династии Рюриковичей в семейных усыпальницах
Вторая супруга Всеволода Ярославича (ум. 1111 г.) и Янка Всеволодовна (ум. 1112 г.)
Меньше всего вопросов, пожалуй, вызывают захоронения неназванной по имени супруги князя Всеволода Ярославича и его дочери
Янки в Андреевском монастыре. Эта организация появилась благодаря князю, вероятнее всего, была названа в честь его патронального святого – захоронение здесь жены и дочери Всеволода было более, чем логично. Другой вопрос – почему именно эти женщины удостоены внимания летописца? Ведь подобных сведений нет даже о предыдущей жене Всеволода – «Мономахине», представительнице византийской императорской династии.
Итак, супруга Всеволода и его дочь, Янка, умирают в 1111 и 1112 гг., соответственно. Ответ на вопрос о том, почему летописец упоминает о смерти Янки Всеволодовны отчасти лежит на поверхности. Янка внесла значительнейший вклад в развитие семейного Андреевского монастыря, который даже вошел в летописи под названием «Янчин». При этом, важно еще отметить, что Янка приняла постриг, причем будучи девицей. Как справедливо заметили Т.И. Афанасьева и Т. Лебер, в случае, когда постриг принимает незамужняя девушка, происходит ее символическое обручение с Христом, она выбирает небесного жениха вместо земного9. Чтобы понять значимость этого события и его связь с упоминанием о смерти княжны, следует обратиться к контексту эпохи.
Начало XII в. – время наиболее активных антиполовецких кампаний русских князей, в которых были формальный и реальный лидеры – Святополк Изяславич и Владимир Мономах. Последний, по словам летописца, уступил после смерти своего отца, Всеволода Ярославича, великокняжеский престол своему двоюродному брату лишь во имя соблюдения порядка престолонаследия10, что в условиях борьбы с половцами было системообразующим компонентом. Собственно, идея единения русских князей против Степи, противостояния носителей христианской религии «неверным» – лейтмотив политической «доктрины», выстраиваемой Мономахом на рубеже XI–XII вв.11А.В. Лауш-кин отметил, что именно в этот период в русской книжности становится устойчивым употребление слов «хрестьянин» и «хрестьяньски» для обозначения жителей Руси и проявляется в оппозиции «мы – степня-ки»12. Также важно обозначить, что дети Владимира Мономаха от второго брака, заключение которого приходится на 90-е гг. XI в.13, входят в летописи исключительно под христианскими именами.
Возвращаясь к вопросу о значимости пострига Янки в девичестве и упоминания о ее смерти, мы должны отметить, что в сложившихся условиях – децентрализация Руси, половецкая угроза и княжеские распри – элитам необходимо было формировать дополнительные практики легитимации власти. В случае со Всеволодовичами-Мономашичами это было подчеркивание почитания христианской веры, приближенности посредством дел и поступков этой семьи к Богу. Случай с Янкой как нельзя лучше встраивался в доктрину ее брата, Владимира, о противостоянии степнякам.
Сквозь эту же призму можно рассмотреть упоминание о смерти супруги князя Всеволода Ярославича, скончавшейся на год раньше Янки. О ней известно немного, однако в рассматриваемом контексте крайне примечателен сюжет под 1097 г. В разгар конфликта между Владимиром Мономахом и Святополком Изяславичем, причиной которого стало ослепление теребовльского князя Василька, именно жена Всеволода вместе с митрополитом Николой становится посредником в переговорах между князьями. Их речь была обращена именно к Владимиру, который являлся пасынком для вдовы Всеволода, и содержала ключевую идею – о необходимости единения русских князей во имя сохранения Русской земли перед лицом половецкой опасности: «Молимсѧ кнѧже тобѣ и брато ма твоима не мозѣ те погубити Русьскои землѣ аще бо возметь рать межю собою погани имуть радоватисѧ и возмуть землю нашю»14. Владимир, услышав обращение, последовал ему, так как почитал супругу Всеволода «яко мт҃рь» и митрополита, «тако же тѧ санъ ст҃льскъıи». По сути, речь идет о встраивании поведения супруги Всеволода в политико-идеологический контекст, формируемый Мономахом. Упоминание о ее смерти соответствует той же логике, что и в случае с Янкой Всеволодовной.
Мария (Марица) Владимировна (ум. 1146 г.)
Еще одна представительница династии Рюриковичей, место погребения которой вошло в летописный нарратив, дочь Владимира Мономаха, Мария (Марица), о судьбе которой нам известно немного. Очевидно, ранее 1116 г. на Руси появился некий «царевич Леон», который выдавал себя за византийского императорского наследника. На тот момент уже князь киевский Владимир Мономах признал его настоящим сыном императора Романа Диогена, женил на собственной дочери и поддержал его властные претензии относительно византийских городов на Дунае. По сути, брак между Марицей и Леоном был частью взаимовыгодного политического союза. Сам Владимир Всеволодович по линии матери приходился внуком императору Константину IX Мономаху. Поддержка киевского князя укрепляла позиции Леона. При этом, в случае успеха военной кампании, Владимир получал подконтрольные территории на Дунае. Однако политические чаяния союзников не привели к желаемому результату. В 1116 г. Леон был убит под Доростолом15. Владимир Мономах не прекратил военные действия, однако они не увенчались успехом.
Результатом матримониального союза стала не только война, но и рождение сына Леона и Марицы, который вошел в русскую летописную традицию под именем «Василько Маричичь», «Василько Леонович». Как отметили А.Ф. Литвина и Ф.И. Успенский, употребление патронима и матронима демонстрирует, что, с одной стороны, родственники по линии отца не принимали участия в жизни ребенка, а с другой – что княжич не был лишен права на связь с отцовским родом16. Также важно обозначить, что в летописи подчеркивается связь Василька еще и с дедом: в сообщении о гибели «Леоновича» (погиб в 1135 г., в ходе междоусобицы) он назван «внукъ Володимерь»17. Сама же Марица в 1146 г. скончалась и была погребена «в своей церкви, в ней же и пострижеся»18. Идентифицировать, что это за церковь крайне сложно.
Неточное, но все же упоминание о месте захоронения дочери Владимира Мономаха наталкивает на мысль о нетривиальном жизненном пути Марицы и о весьма своеобразной реализации функций матримониального союза. Из летописных данных следует, что мужа Марицы, Леона, признавали истинным наследником византийского престола («Леонь царевичь зѧть Володимерь»). В этом случае матримониальный союз русской княжны и представителя императорской династии Византии воспринимался (или, как минимум, транслировался) властной элитой Руси как чрезвычайно значимый и высокий по статусу. При этом, Марица после смерти мужа принимает постриг, что не было обязательством для княгиньвдов. Х. Рюс отметил, что постриг после смерти или разрыва с мужем принимали, в первую очередь, овдовевшие императрицы, так как новый брак означал для них «умаление прежнего высокого политического положения»19. Безусловно, Марица не имела статуса императрицы, но ее брак был обусловлен весьма амбициозными геополитическими планами, а ее муж считался прямым потомком, наследником, византийского императора.
Мария (Агафья) Мстиславна (ум. 1179 г.)
Мстиславна (по предположению исследователей имя княжны – Мария или Агафья) – дочь Мстислава Великого, ставшая женой Всеволода Ольговича, князя из черниговской ветви Рюриковичей. Этот брак примечателен тем, что невеста и жених были представителями двух линий династии, враждующих за великокняжеский престол. Вопрос о дате брака Марии (Агафьи) и Всеволода является дискуссионным. Однако ключевым событием, вероятно, предварявшим свадьбу, был конфликт между Всеволодом Ольговичем и его дядей, Ярославом Святославичем, состоявшийся в 1127/1128 г. Брак дочери Мстислава и Всеволода был гарантом политического союза князей в условиях децентрализации Руси и, как следствие, результатом образования весьма неожиданных альянсов между Рюриковичами20.
Последующие события недвусмысленно указывают на этот политический подтекст. В 1139 г. Всеволод Ольгович добился власти в Киевском княжестве, хотя его отец никогда не здесь не правил, а дед Святослав в период триумвирата незаконно и на непродолжительное время занял старейший престол. Власть в Киеве Всеволод получил после своего тестя Мстислава Великого и его брата Ярополка Владимировича, согнав с великокняжеского стола еще одного сына Мономаха, Вячеслава, имевшего весьма шаткие позиции ввиду своей бездетности. О праве Всеволода Ольговича на Киев прямо говорят слова его шурина, сына Мстислава, Изяслава. Последний, несмотря на желание киевлян видеть его на престоле, признает Всеволода как зятя, старшего брата, равного отцу: «Изѧславъ же събравъсѧ на поли и хрс̑тьянъıя и поганъıя и реч̑ имъ брат̑е Всеволода есми имѣлъ въ правду брата старишаго занеже ми братъ и зѧ ть старѣи мене яко ѡц҃ь»21. В подобном признании есть достаточно серьезная заслуга супруги Всеволода – как реальная, так и символическая. Как свидетельствует летопись, именно Мстиславна поддерживала коммуникацию между мужем и своими родными братьями22. И именно брак с ней позволил Всеволоду символически оказаться Мстиславичам ближе, чем родственники по отцу – в частности, тот самый бездетный Вячеслав.
Собственно, в период киевского княжения Всеволода в окрестностях столицы появляется Кирилловская церковь. Сам Всеволод Ольгович был похоронен в Вышгороде, в церкви Бориса и Глеба, вероятно, по причине незавершенности строительства Кирилловской церкви. Закончила это дело жена князя, о чем сказано в летописной статье 1179 г., повествующей о ее смерти: «Престависѧ кнѧгини Всеволожая приємьши на сѧ чернечкоую скимоу и положена бъıс̑ в Києвѣ оу ст҃го Кюрила юже бѣ сама создала»23. Место погребения жены Всеволода в этом контексте было чрезвычайно значимым с позиции формирования родового некрополя черниговских Рюриковичей в Киевской земле, символически закрепляющей властные претензии этой династической линии. Тем паче, что в год смерти княгини киевским князем являлся Святослав Всеволодович (который, напомним, также будет похоронен в Кирилловской церкви) – сын Мстиславны и Всеволода Ольговича.
Захоронения представительниц династии Рюриковичей в монастырях, изначально не имевших статус семейных усыпальниц
Евпраксия Всеволодовна (ум. 1109 г.)
Евпраксия – дочь Всеволода Ярославича и супруга императора Священной Римской империи Генриха IV, которая возвратилась на Русь после неудачного замужества и грандиозного скандала. Напомним, что поводом к последнему стало выдвинутое против императора его женой обвинение в аморальном поведении. Евпраксия в 1094 г. бежала от мужа под защиту Матильды Тосканской, а на соборе в Констанце, затем в Пьяченце произнесла обличительные речи в адрес своего супруга и получила полное освобождение от грехов, дарованное Папой
Римским Урбаном II. Затем она вернулась в Киев, где в декабре 1106 г. приняла постриг24, а в 1109 г. умерла и получила последнее пристанище в Киево-Печерском монастыре25.
Нетривиальность сюжета с местом захоронения Евпраксии обусловлена особым статусом Киево-Печерской обители. С одной стороны, нам известен далеко не один конфликт братии монастыря с киевскими князьями, ввиду чего здесь крайне редко хоронили представителей династии. С другой – авторитет этого монастыря был чрезвычайно высок, и особое значение он приобрел в контексте антиполовецкой борьбы русских князей рубежа XI–XII вв. Вопрос о Киево-Печерской обители как месте захоронения Евпраксии не единожды затрагивался в науке. В историографии высказывались предположения о крупных вложениях дочери Всеволода в этот монастырь, а также – о воле ее отца, в последние годы своей жизни отдалившегося от высшей греческой иерархии и, выражаясь словами М. Д. Приселкова, сблизившийся «с национальным киевским церковно-политическим направлением»26. Однако сведения источников не дают возможности подтвердить эти концепции.
Х. Рюс сделал весьма интересное замечание, указав на то, что Евпраксия была похоронена у двери, с юга. Он связал это с традицией византийских императоров находиться во время службы в южной части собора Святой Софии. Со ссылкой на М. Б. Свердлова, Х. Рюс указывает, что захоронение в южной части становилось символом постоянного присутствия княжеской элиты в храме во время богослужения. Таким образом, по мнению ученого, подчеркивалось возвращение Евпраксии к «“киевским корням” и “православной вере”[…] [ее стремление – прим. Н.Н.] похоронить за монастырскими стенами “латинское прошлое”»27.
Однако, если обратиться к работам М. Б. Свердлова, следует отметить, что захоронение в церкви представителей правящей элиты Руси исследователь видит, как сочетание нескольких традиций. Это западнохристианская практика захоронения в центре церкви (она, по мнению ученого, и стала основой «киевской» традиции) и не связанная с погребальными обрядами византийская практика пребывания императора во время богослужения в южной части храма28. Также следует отметить, что Киево-Печерский монастырь приобрел статус центра национального христианства (об этом, со ссылкой на М. Д. Приселкова, пишет и сам Х. Рюс), и было бы крайне странно, если бы захоронение Евпрак-сии выражало некую преемственность с византийской традицией.
Наконец, лейтмотив летописного повествования, где сообщается о постриге и смерти Евпраксии, напрямую связан с антиполовецкой борьбой. Под 1106 г. после упоминания о нашествии степняков содержится рассказ о постриге здесь князя Святослава Давыдовича (Николы Святоши), пострадавшего от междоусобных распрей, с участием по- ловцев; а также – рассказ о смерти старца Яня, жене которого небесный заступник Земли Русской Феодосий Печерский предсказал место захоронения рядом с его гробом. Под 1107 г. сказано о привычке князя киевского Святополка Изяславича ходить на поклон к гробу Феодосиеву перед военными предприятиями. Удачный поход против степняков охарактеризован как результат молитвы Богородицы и Феодосия. 1108 г. знаменуется прославлением Феодосия посредством распространения его Жития и внесения его имени в Синодик. Наконец, под 1109 гг. читаем о том, что в Киево-Печерской обители находит последнее пристанище Евпраксия Всеволодовна.
В связи с перечисленным выше представляется более вероятной идея подчеркивания статуса Евпраксии, особенно в условиях антиполовецкой борьбы. Как бы то ни было, Евпраксия получила отпущение грехов от самого Папы Римского Урбана II – высшего церковного иерарха в западнохристианском мире и идейного вдохновителя Первой крестоносной кампании, которая была, по сути, инициирована византийским императором Алексеем Комнином, и цель ее состояла в освобождении главной святыни всего Христианского мира, Иерусалима, из рук «неверных». Более того, по возвращении на Русь Евпраксия Всеволодовна приняла постриг, тем самым, не понижая свой статус императорской супруги, с одной стороны, и, следуя Христу, отказываясь от благ земной жизни – с другой. По своей сути, ситуация очень схожа с рассмотренными выше случаями Янки и супруги Всеволода. Статус и поведение Евпраксии соответствовали идеологической доктрине Владимира Мономаха, сопряженной с идеей о значимости христианской веры, приближенности посредством дел и поступков семьи Мономаха к Богу. Тем более, что, в означенный период разрыва отношений Мономаха и братии Киево-Печерского монастыря еще не произошло29, а авторитет этой обители играл «на руку» Владимиру.
Евфимия Владимировна (ум. 1138 г.)
Внимания летописца в плане указания места захоронения была удостоена дочь Владимира Мономаха Евфимия. В Лаврентьевском летописном своде сказано: «Престависѧ Єоуфимья Володимерна и положена бъıс̑ на Берестовѣмь оу ст҃го Сп҃са»30. В Ипатьевском своде указание на место захоронения Евфимии отсутствует, но известие о ее кончине помещено летописцем первым среди событий, произошедших за год31.
Из средневековых русских источников о судьбе Евфимии Владимировны, помимо смерти, известно лишь то, что в 1112 г. в состоялся ее брак с венгерским королем Калманом Книжником32. Почему дочь Мономаха снова оказалась в Киеве, где скончалась и была похоронена, свидетельствует «Венгерский хроникальный свод» (XIV в.). Согласно ему, супруги расстались; основанием для этого был адюльтер Евфимии, следствием которого стало рождение ее сына Бориса.33
Русские летописи, как и более ранние, чем Венгерский хроникальный свод, иностранные источники, умалчивают об этой истории. Среди исследователей до сих пор нет единого мнения о том, была ли действительно измена.
В контексте данной статьи особое внимание привлекает само место захоронения. Евфимия Владимировна была первой представительницей династии Всеволодовичей-Мономашичей, нашедшей покой в Спасо-Преображенском монастыре, в селе Берестово, под Киевом. Позднее здесь будет упокоен сын Владимира, Юрий (1157 г.), и его внук – Глеб Юрьевич (1173 г.).
Само село упоминается в летописях, начиная с X в., и связано с именем Владимира Святого. Здесь в 980 г. еще язычник Владимир держал своих наложниц, и здесь же, в 1015 г., уже князь-христианин умер, собираясь в поход против своего сына Ярослава. Собственно, в 1051 г., Берестово появляется на страницах летописи, как любое сельцо Ярослава Владимировича, и здесь же мы обнаруживаем упоминание о церкви Святых Апостолов в этом селе. Из летописного текста 1072 г. мы узнаем, что в Берестове уже есть монастырь Святого Спаса с игуменом Германом во главе. Именно в Берестове в 1073 г. изначально утверждаются князья–триумвиры Святослав и Всеволод, нарушившие отцовское завещание и выступившие против старшего брата Изяслава. И именно в Берестове, в разгар киевских беспорядков 1113 г. принимает свой устав Владимир Мономах. Весь этот набор летописных фактов позволил исследователям прийти к выводу о развитии села Берестово на протяжении конца X – начала XII вв. как загородной княжеской резиденции. А также – сделать предположение о том, что именно благодаря Владимиру Мономаху здесь была возведена церковь Святого Спаса34. Князь желал символически укрепиться в этой загородной резиденции, что было крайне важно в условиях нарастающей децентрализации Русских земель.
Итак, Евфимия была похоронена в сакральной постройке, в которую, вероятно, финансово «вложился» ее отец. Однако момент отсутствия ее символической связи с семейным Андреевским монастырем (в котором, к слову, практически в тот же временной промежуток, в 1139 г., был похоронен князь киевский, брат Евфимии, Ярополк Владимирович) весьма симптоматичен. Похороны Евфимии Владимировны в загородной укрепленной резиденции могут встраиваться в логику системы захоронений в том случае, если эта представительница рода совершила нечто неприемлемое в понимании средневекового общества – к примеру, адюльтер. Весьма вероятно, что упоминание о смерти Евфимии было связано с вопиющим случаем нарушения функционирования системы матримониальных связей, и ее судьба интересовала летописца именно поэтому. В доказательство следует отметить, что Евфимия Владимировна – единственная из рассматриваемых в данной статье женщин – представительниц династии Рюриковичей, относительно которой летописные известия ограничиваются только упоминанием о браке и смерти. К слову, в эту логику встраивается и абсолютное невнимание летописцев к персоне сына Евфимии Бориса. Пожалуй, из рассмотренных выше случаев только о Марице Владимировне мы знаем так же мало, однако ее сын упоминается в летописи и его связь с родом отца подчеркивается.
Ольга Юрьевна (ум. 1182 г.)
Еще одна представительница династии Рюриковичей, которая была удостоена внимания летописца в вопросе о месте последнего пристанища – Ольга Юрьевна, дочь Юрия Долгорукого и по совместительству жена галицкого князя Ярослава Осмомысла.
Политическая подоплека брака Ольги и Ярослава вполне ясна, если обратиться к контексту эпохи. Владимир Володаревич, отец Ярослава, князь Галицкий, поддерживал Юрия Долгорукого в борьбе с его племянником Изяславом Мстиславичем за киевский стол. Союз детей служил подтверждением взаимной лояльности князей. В браке Ольги и Ярослава родился только один сын – Владимир. При этом у князя был еще сын Олег, появившийся на свет от его любовницы Настасьи и вошедший в русские летописи под отчеством «Настасьич». Ярослав открыто признавал бастарда Олега своим наследником, очевидно пренебрегая родившимся в законном браке сыном Владимиром. Такая ситуация в семье Ярослава Осмомысла была осложнена как политическими конфликтами внутри княжества, так и за его пределами.
В контексте рассматриваемого вопроса чрезвычайно важен очередной виток обострения отношений внутри семьи Ярослава и, одновременно, с его боярством и с киевским престолом, который произошел в 1170-1171 гг. В это время великим князем киевским на недолгий срок стал брат Ольги, Глеб Юрьевич. Осмомысл, при этом, оказал военную помощь изгнанному из Киева Мстиславу Изяславичу и, более того, открыто объявил своим наследником Олега Настасьича. В 1173 г. Ольга Юрьевна с сыном Владимиром бежали в Польшу35. Недовольные Осмомыслом бояре, по сути, использовали ситуацию в семье князя в качестве предлога выступить против него. Ярослава Владимировича вместе с незаконнорожденным сыном Олегом заключили под стражу, его сторонников убили, а Настасью заживо сожгли на костре36. Более того, с князя взяли обещание жить с законной женой. Правда, эта обязательство не получило должного исполнения: уже через год Владимир был вынужден снова бежать от своего отца37. Сама же Ольга Юрьевна нашла прибежище у своих братьев, в родных для нее землях. В 1178 г. княгиня стала крестной матерью своей племянницы, дочери Всеволода Большое Гнездо38. Умерла она в 1182 г. и была погребена в Богородичной церкви г. Владимира. О смерти Ольги в летописной статье сказано: «Престависѧ блг҃овѣрная кнѧгъıни Ѡлга нареченная чернечьскъı Ѥоуѳросинья бъıс в ст҃ѣи Бц҃и в Володимери»39.
Именно из сообщения о кончине княгини мы узнаем о принятии ею пострига и об имени, которое Ольга получила в монашестве. Княгиня стала монахиней при жизни мужа, и в летописном сообщении о смерти она названа благоверной. Значение слова «благоверный» для средневековой Руси сводится к определению «преданный истинной вере / исповедующий истинную веру»40. Любопытно и само имя, которое Ольга Юрьевна берет в монашестве – Евфросинья. В данном контексте нельзя не обратить внимания на современницу Ольги Евфроси-нью Полоцкую, внучку князя Всеслава, которая отказалась от брачного союза и приняла постриг. Имя этой княжны связано с основанием в Полоцке мужского и женского монастырей, с появлением на Руси эфесской иконы Божьей Матери и с совершенным ею перед смертью паломничеством в Иерусалим, где Евфросинья и нашла свое последнее пристанище. Нельзя не обратить внимания и на некое символическое пересечение судеб Ольги Юрьевны и Евфросиньи Полоцкой: в 1173 г. Ольга вместе с сыном бежала из Галича, и в этот же год умерла Евфросинья. Такое совпадение может быть неслучайным, что подтверждается еще одним интересным наблюдением. Как отметили А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский, среди потомков Юрия Долгорукого не единожды встречается имя Евфросинья, на основании чего «можно допустить, что перед нами своего рода семейный культ св. Евфросиньи», сочетающий почитание св. Евфросиньи Александрийской и Евфросиньи Полоцкой41. Дочь князя Бориса Юрьевича носила такое имя в быту, а внучка Всеволода Юрьевича Большое Гнездо получила такое имя в крещении.
Итак, союз Ольги и Ярослава, заключенный по политическим соображениям, был вопиющим случаем пренебрежения основными функциями и механизмами матримониальных связей, где именно Ярослав выступал главным виновником. История данного брака – пример того, как, с одной стороны, не должен работать матримониальный союз; а с другой – история про достойное поведение женщины в этом союзе, отстаивавшей политические права своего сына и принявшей монашество, отказавшись от благ земной жизни. Вполне вероятно, что именно данные обстоятельства и стали поводом для внесения в летопись свидетельства о месте погребения этой Рюриковны.
В заключении следует отметить, что в рамках означенной хронологии и географии представительницы династии Рюриковичей получали несколько строк в летописи о своей смерти и месте захоронения в нетривиальных с точки зрения средневековой морали и системы мировосприятия случаях. Это были примеры нарушения функционирования одного из ключевых институтов средневекового общества – системы матримониальных связей. Зачастую эти прецеденты «умножались» на актуальную политическую повестку эпохи, где роль женщины – представительницы династии становилась принципиально важной в плане символического закрепления властных претензий той или иной ветви Рюриковичей. Особенно это было значимо ввиду усиливавшихся процессов децентрализации Руси и поиска политическими элитами эффективных средств легитимации власти. И именно погребения, в условиях продолжавшегося процесса христианизации, стали таким средством. Более того, именно XII в. обозначается исследователями как эпоха, в которой преобладающими были внутридинастические матримониальные союзы Рюриковичей42. Это стало следствием разрастания самой династии и, соответственно, возможностью заключать браки между Рюриковичами и «Рюриковнами», не нарушая церковные запреты. В этих условиях политико-символический диалог между представителями одной династии должен был приобрести определенные формы выражения. И практика погребений супруг и дочерей Рюриковичей, зачастую относящихся к той же династии, что и князья, становилась одной из них.