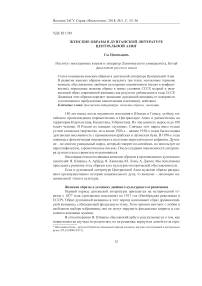Женские образы в дунганской литературе Центральной Азии
Автор: Сы Цзюньцинь
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена женским образам в дунганской литературе Центральной Азии. В развитии женских образов можно выделить три этапа: молчаливое терпение женщин, обусловленное двойным культурным ограничением (ислам и конфуцианство), переходные женские образы в новых условиях СССР, мудрый и независимый образ современной женщины как результат урбанизации в годы СССР. Динамика этих образов передает эволюцию дунганской женщины от покорности и подчинения к пробуждению самосознания и активному действию.
Дунганская литература, женские образы, эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/146281290
IDR: 146281290 | УДК: 821.581
Текст научной статьи Женские образы в дунганской литературе Центральной Азии
140 лет назад, после неудачного восстания в Шэньси и Ганьсу, хуэйцзу китайского происхождения переместились в Центральную Азию и разместились на территории Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Их численность выросла до 100 тысяч человек. В России их назвали «дунгане». Сначала этот народ имел только устное словесное творчество, но в конце 1920-х – начале 1930-х годов была создана дунганская письменность с применением арабских и латинских букв. В 1950-е годы появилась фонетическая письменность на основе кириллического алфавита. Дунгане – во многом уникальный народ, который говорит по-китайски, но использует не иероглифическое, а фонетическое письмо. После создания письменности литература дунган стала стремительно развиваться.
Настоящая статья посвящена женским образам в произведениях дунганских писателей: Я. Шивазы, А. Арбуду, Я. Хавазова, Ю. Лома, А. Джона. Мы попытаемся проследить развитие этих образов в их культурно-исторической обусловленности.
Если в дунганской литературе Центральной Азии мужские образы раскрывают преимущественно историю национального духа, то женские – эволюцию национальной этики и культуры.
Женские образы в условиях двойного культурного ограничения
Первый период дунганской литературы приходится на исторический отрезок с 1877 года (дунганское восстание) по 1917 год (Октябрьская революция в СССР). Образ дунганской женщины в этот период напоминает образ древнекитайской женщины, соблюдающей феодальную этику. Хотя героини мечтают о любви и свободном выборе избранника, они не могут нарушить феодальные запреты и становятся жертвами мужчин.
В стихотворении Я. Шивазы «Белокожий арбуз» рассказывается о том, как новая невестка скучала по родителям, но не решалась вернуться домой из-за стра- ха быть избитой мужем и свекровью [5, с. 13–14]. Я. Хавазов в рассказе «Тоска» также повествует о тяжелой судьбе дунганской женщины. Когда умер муж, вся забота о детях легла на ее плечи: «Она проливала так много, так много слез…» [6, с. 102]. В рассказе А. Арбуду «Саньва и Шаянь» описана трагическая судьба девушки Шаянь.
Поэт Я. Шиваза и прозаик А. Арбуду названы «парой яшм» в дунганской литературе [4, с. 7]. «Саньва и Шаянь» – это дунганские «Ромео и Джульетта». Ша-янь – девушка из богатой семьи, полюбившая батрака Саньва. После того как отец избил ее, она наложила на себя руки. Саньва откопал тело Шаянь, припал к нему и покончил с собой в новой могиле. В конце рассказа из могилы выпархивают два голубя, олицетворяющие верность любви.
Шаянь прекрасна, и «в городе не могут найти вторую такую красавицу». Ее отец – богатый человек, десять лет назад он начал готовить для нее «яркое платье, золотистые туфли, ювелирные изделия и другое приданое» [6, с. 67]. Соблюдая традиции, Шаянь могла жить в роскоши и изобилии. Но ее жизнь напоминала заточение. Будущее молодой девушки – вечное подчинение мужу, которое она видит в собственной матери. Знакомство с Саньва пробудило любовь, которую не может пересилить даже страх смерти.
Причина этого трагического события в том, что дунганские женщины строго соблюдали этику ислама и конфуцианства.
Предки хуэйцзу (дунгане) прибыли в Китай в период династии Тан, и название «хуэйхуэй», по мнению ученых, впервые встречается в летописях Сунской династии. Народность хуэйцзу формируется в период династии Мин. Китайские мусульмане восприняли конфуцианство с опорой на этические принципы ислама. Под воздействием ислама и конфуцианства сложилась культура хуэйцзу. В соответствии с Кораном «мужчины могут жениться на двух, или трех, или четырех женщинах» [3, с. 56]. Это результат привилегированного положения мужчин, что соответствует китайской феодальной традиции. Вместе с тем в период становления культуры хуэйцзу была распространена догма «лисюе» Чжу Си. Он пропагандировал следующие принципы поведения: «превосходство мужчины над женщиной», «три устоя и пять незыблемых правил», «троякая покорность и четыре достоинства». Таким образом, дунганские женщины жили в условиях двойной этики. Модель женского поведения – «послушная жена и нежная мать». Если женщина не соблюдала эти этические нормы, то подвергалась унижению и наказанию: ее избивали, оскорбляли и даже выгоняли из дома. Женщины были бесправны.
После переселения в Центральную Азию дунгане сохранили традицию расселения китайских хуэйцзу – «маленькая концентрация, большой разброс». В Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане возникло тридцать поселений дунган, в самом большом из них проживает десять тысяч дунган. Эти городки являются культурными и духовными центрами. Дунгане сохраняют свою национально-культурную самобытность, соблюдают обычаи, передают правила поведения и этические нормы молодому поколению. Можно сказать, что «от материальной культуры до обычаев и языковой среды, они сохранили свою уникальную национальную самобытность» [4, с. 130]. Особенность этой самобытности – ее консерватизм и патриархальность. Она продолжает существовать в коллективном бессознательном как духовная инерция. После переселения в Центральную Азию дунганские женщины продолжали жить под бременем патриархальной культуры, оставаясь покорными своей тысячелетней судьбе. В этом культурный смысл судьбы несчастной Шаянь.
Писатели симпатизируют этим женщинам. Несмотря на их бесправное положение, они оставались милосердными, упорными, трудолюбивыми, самоотверженными. Дунганские женщины олицетворяют истину, добро и красоту.
Переходные образы дунганских женщин в годы СССР
С октября 1917 года до конца 1950-х годов продолжается второй период дунганской литературы. Дунганские женщины преодолели господство традиционной культуры и вышли из тени мужского права. Они тянулись к образованию, социальной реализации.
После Октябрьской революции с начала 1930-х годов в национальных районах советским правительством проводилась особая национальная политика. Она изменила положение национальных меньшинств, у которых долгое время не было письменности. Советское правительство поручило ученым-лингвистам разработать письменность для 52 национальных меньшинств, в том числе для дунганского населения. Создание дунганской письменности способствовало развитию и процветанию дунганской литературы. Можно сказать, что национальная политика СССР сыграла огромную роль в сохранении дунганских обычаев, их национальной самобытности. Национальная политика привела также к изменению положения женщин. Это во-первых.
Во-вторых, СССР провозгласил и закрепил в конституции равенство мужчин и женщин. Женщины получили право голоса и избирательные права. Всё это способствовало нравственному освобождению женщин. «Они получили право на равенство с мужчинами в социально-политической, экономической и культурной жизни» [2, с. 5]. Советское правительство открыло широкие возможности для развития женщины. Женщины освобождаются от власти семейного очага, а экономическая независимость создает предпосылки для пробуждения женского самосознания.
В-третьих, Великая Отечественная война, отняв жизнь у многих мужчин, активизировала роль женщин. Женщины взвалили на свои плечи тяжелую ношу и не согнулись под ней. Например, в рассказе Я. Хавазова «Миссия» жена, после того как муж ушел на фронт, выполняет тяжелую мужскую работу и справляется с ней. Похожие ситуации мы встречаем в рассказе Ю. Лома.
Работая плечом к плечу с женщинами других народов, дунганские женщины увидели других людей, познакомились с их образом жизни, привычками. С одной стороны, это их привлекало, с другой – вызывало противодействие. Некоторые мудрые дунгане начали зорко вглядываться в свои обычаи.
В новых социально-исторических условиях возник новый герой – человек, уверенный в себе. Дунганские женщины начинают выходить из узкого семейного круга на широкий общественный простор: в поля, школы и т. д. В них пробуждается самосознание, многие стремятся самостоятельно выбирать спутника жизни. В повести «Первый агроном» А. Арбуду, создав образ Цунхуа, показал идеалы и эволюцию взглядов дунганской женщины.
Цунхуа повезло, тогда как многие ее сверстницы, следуя традиционным нормам, были вынуждены отказаться от школы. Отец Цунхуа – человек просвещенный, он поддержал стремление дочери продолжить образование. Став агрономом, Цунхуа реализовала идеал дунганских женщин. Поведение Цунхуа так удивило сторонников традиционного образа жизни, что они посчитали талант девушки заслугой аллаха [1, с. 196]. Молодое поколение последовало ее примеру. Это заставило многих женщин предполагать, что вина за их неудавшуюся судьбу лежит на старшем поколении: виноват не аллах, а их недалекие родители.
В дунганской поэзии наблюдается стремление женщины к свободному волеизъявлению в любви. Об этом поэтические произведения «Девушка Ма сбежала», «Женщина на лошади», «Старшая сестра и младшая сестра» Я. Шивазы [6, с. 5]. Поэма «Девушка Ма сбежала» рассказывает о влюбленных девушке и юноше. По обычаю они обратились к родителям за благословением, но получили отказ. Девушке и юноше ничего не оставалось, как убежать из дома. В традиционном обществе этот поступок означал бы для девушки бесчестие, но в 1930-х годах он символизирует свободу и вызывает восхищение у автора: «Девушка Ма сбежала / как горный ветер / никакого следа не осталось» [5, с. 35–36].
Итак, дунганская женщина в этот период показана как личность с пробудившимся сознанием. Она стремится к счастью в любви и браке, восстает против патриархальных традиций. Тем не менее данный образ – все-таки переходный, сформированный условиями советской эпохи.
Современные образы мудрых и независимых женщин
С 1950-х годов до середины 1980-х годов в СССР идут процессы индустриализации и урбанизации. Многие дунгане покидают деревню и переезжают в город, где проживают компактными группами. В силу того, что «образ жизни и идеологические представления постепенно отрывались от национальных корней, ослабевали зависимость от семьи и обязательность исламских правил; многие национальные традиции уже не воспринимались серьезно» [6, с. 180]. Эта ситуации отражена в рассказе «Село» Ю. Лома. Пожилые пары жили в селе, а сыновья и дочери работали в городе. Они общались с представителями разных этнических групп, в семье говорили по-русски. В результате их дети забыли дунганский язык [Там же, с. 178].
В советское время большое внимание уделялось подготовке национальных кадров, в том числе среди женщин. Обязательным было десятилетнее образование, что сказалось на культурном уровне женщин.
Об этом рассказ А. Арбуду «Не узнали». Герой встретил женщину, которая была похожа на его бывшую жену, но превосходила ее красотой. Он не сводил глаз с красавицы и думал: «Если бы у меня была такая женщина, я бы не зря жил на свете» [1, с. 68]. Он заговорил с ней и решил проводить ее домой. Красавица жила в трехэтажном доме, в обстановке достатка и роскоши. Оказалось, что это женщина – его бывшая жена, с которой они прожили два года. После развода она открыла собственное ателье и разбогатела. Бывшая жена героя оказалась настолько привлекательна и успешна, что он не узнал ее.
Следуя прогрессивным тенденциям, дунганские женщины эмансипируются, освобождаются от культурных ограничений и пытаются самостоятельно решать свою судьбу. В рассказе А. Арбуду «Некомфортность» говорится о том, как героиня отказалась возвращаться в деревню после учебы в городе. Но на этом настаивал ее муж, и супруги расстались. В рассказе А. Арбуду «Хаджер» героиня Хаджер вынуждена принести в жертву свой брак, потому что расхождение с мужем во взглядах стало причиной семейных конфликтов.
Исследуя противоречия жизни, писатели показывают сложные и многогранные женские характеры. В дунганской литературе появились героини, чье поведение отклоняется от традиционных добродетелей. Например, в рассказе А. Джона «Две снохи» изображены две невестки, которые прятали общие мясо и яйца в свой шкаф. При жизни свекрови они мучились вопросом, кому достанется квартира после ее смерти; прятали деньги, и даже мужья не знали об этом [6, с. 164–172].
Итак, в развитии женских образов в дунганской литературе Центральной Азии можно выделить три этапа: покорность и терпение, вызванные двойным культурным ограничением (ислам и конфуцианство); переходный тип, сформировавшийся в новых социальных условиях в годы СССР; независимый образ современной женщины как результат процесса урбанизации. Вектор эволюции направлен от покорности и подчинения к пробуждению самосознания и активному действию.
Список литературы Женские образы в дунганской литературе Центральной Азии
- Арбуду А. Мостик из одного шеста: повести и рассказы. Фрунзе: Кыргызстан, 1985. 246 с. (на дунганском языке).
- Кодекс о бракосочетании и семье СССР. Переводчик: Maщян. Пекин: Китайское изд-во обществ. наук, 1978. 55 с. (на китайском языке).
- Коран. Переводчик: Маден. Пекин: Китайское изд-во обществ. наук, 1981. 493 с. (на китайском языке).
- Чан Вэнчан. Новый континент в мировой китайской литературе. Пекин: Китайское изд-во обществ. наук, 2010. 369 с. (на китайском языке).
- Шиваза Я. Д. Соловей: сборник стихов. Бишкек: Илим, 2006. 416 с. (на дунганском языке).
- Ян Фэн. Надежда: избранное собрание повестей и прозы дунганских писателей Советского Союза. Урумчи: Синьцзянское изд-во «Женьминь», 1996. 253 с. (на китайском языке).