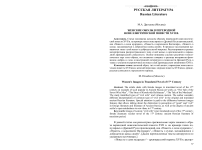Женские образы в переводной новеллистической повести XVII в
Автор: Дроздова Марина Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (40), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена женским образам переводной новеллистической повести XVII в. на примере таких популярных в Древней Руси произведений, как «Повесть о семи мудрецах», «Повесть о королевиче Валтасаре», «Повесть о купце, заложившемся о добродетели жены своей». В процессе исследования выявляются типы «злой жены» и добродетельной матроны. Рассматриваются разные интерпретации распространенного типа «злой жены» в оригинальной и переводной древнерусской словесности. Особое внимание уделено различию типологических черт этого образа, что позволяет говорить о разнице восприятия феноменов «добра» и «зла» в иностранной литературе и словесности Древней Руси, а также о степени восприимчивости новых идей древнерусским книжником XVII в.
Женский образ, тип "злой жены", переводная новеллистическая повесть xvii века, женский персонаж, мирская повесть xvii века, древнерусская словесность переходного периода
Короткий адрес: https://sciup.org/14914600
IDR: 14914600
Текст научной статьи Женские образы в переводной новеллистической повести XVII в
В данной статье мы рассмотрим оригинальные черты женского образа переводной новеллистической повести XVII в. на примере таких популярных в Древней Руси произведений, как «Повесть о семи мудрецах»1, «Повесть о королевиче Валтасаре»2, «Повесть о купце, заложившемся о добродетели жены своей»3. [Далее перечисленные тексты цитируются по указанным источникам.]
«Повесть о семи мудрецах»4 - древнерусский перевод XVII в. распро- страненной на Востоке и Западе индийской истории о напрасно обвиненном сыне и злой мачехе, обрамляющей набор новелл. Основной темой повести является тема женского коварства и женской злобы5, столь близкая средневековой литературе, что подтверждает общеизвестность истории на Руси; ведь, как писал А.С. Орлов, дошедших до нас «русских рукописных текстов Истории насчитывают свыше 40»6, - а уже А.М. Панченко утверждает, что число их близится к сотне7.
Ту же проблему разрабатывает «Повесть о королевиче Валтасаре», по мнению Е.К. Ромодановской, представляющая компиляцию широко известных в мировой литературе новелл о женском коварстве, составленную древнерусским книжником8. Противоположной теме, защиты чести женщины, посвящена широко распространенная на Руси «Повесть о купце, за-ложившемся о добродетели жены своей», переведенная с польского языка в конце XVII в., возможно, одновременно с фацециями9.
Вышеперечисленные новеллистические произведения в качестве центральных женских персонажей представляют типы «злых жен»10. Эти образы типичны, схематичны, различаются лишь степенью насыщенности типологических черт. К тому же сам жанр новеллы использует всегда «готовый характер, определяемый... одним штрихом»11.
В «рамочной» части «Повести о семи мудрецах» представлены женские персонажи-антиподы. Главная героиня, вторая супруга Елеозара, является «злой женой». Однако автор, сохраняя интригу, знакомит читателя с мачехой Диоклетиана, как с «дЕвой юной и красной» (С. 194). Именно привлекательность стала для цезаря ориентиром в выборе невесты: «По-нудися красотЬ ея...и сотворша бракъ» (С. 194). Безымянные героини новелл мудрецов - также жены «млады велми и прекрасны» (С. 203), «велми красны» (С. 207), «прекрасны лицем» (С. 213), «зЕло красны и горазды» (С. 225). Также и автор «Повести о королевиче Валтасаре» называет изменницу-супругу «Флорентой прекрасной» (С. 401), «прекрасной сожи-телницей» (С. 402). Действительно, красота «злой жены» - типологическая черта этого образа именно в переводной литературе.
В рассматриваемых новеллах негативные эпитеты, сравнения или метафоры используются в описании отрицательного женского персонажа чрезвычайно редко. В «Повести о семи мудрецах» однажды во сне Диоклетиану грезится мачеха в виде лютого зверя, который «пущаше на него слины» (С. 196). Поведение мачехи при встрече реминисцирует к образу зверя, виденному во сне: «Писание же Диаклетианово зубами раздра и одеяние свое растерза до пояса и лице свое до крови одра, нача вопити великимъ гласомъ» (С. 197) или, как позже рассказывает об этом Диоклетиан: «Руками сама си от лютости своея ... лице свое окровави, и зубы своими сама себе изъяде» (С. 234). Данная воплощенная во сне метафора -единственное отрицательное повествование о «злой жене» до разоблачения ее предательства, остальное же время образ сопровождают положительные эпитеты: «любезная» (С. 198), «любимая» (С. 201), «пресвЕтлая» (С. 205), «прелюбезная» (С. 209), «милая» (С. 222), «пресладкая» (С. 227). Это неоднозначное отношение авторов новелл к типу «злой жены» ярко

отличается от преподнесения данного образа в произведениях древнерусских книжников, которые недвусмысленно называют «злую жену» «змеей» или «окаянной». Тот факт, что в новеллистических повестях отрицательные женские персонажи не сопровождаются постоянными тропами негативного характера, формирует оригинальную типологическую черту образа «злой жены» в жанре новеллы12.
В переводной рыцарской повести и ее древнерусских аналогах авторы также именуют «злых жен» «прекрасными»13, однако в новеллистической литературе помимо приятной внешности писатели похвально описывают и сам брак с такой супругой. Брак цезаря Елеозара с предательницей представлен как «чюденъ и пресвЕтель зЕло» (С. 194), супружество королевича Валтасара с лукавой женой именуется «честным браком» (С. 401), в котором чета живет «вельми любезно» и «людемъ житию их позавидети» (С. 401). Взгляд же древнерусских авторов повестей, как мы не раз отмечали, более прямодушен: «НЕкто вънидЕ въ богатъ домъ къ вдовЕ и оженися ею, но бяше зла. И людие хваляху ему, он же рече: «Не нынЕ хвалитЕ ми, но егда избуду ея» (С. 485)14. Безусловно, такая особенность знакомства читателя с женским персонажем переводной новеллы имеет истоком условие жанра: новелла должна иметь занимательный сюжет, внезапные перипетии, неожиданную развязку.
Превращение «прекрасных сожителниц» в злобных изменниц не мотивируется авторами рассматриваемых новеллистических повестей, а происходит неожиданно. Древнерусский книжник в подобных случаях прибегал к так называемому deus ex machina, поясняя, что злоба была навеяна женщине дьявольским наущением. Ни в одной из рассмотренных нами переводных повестей иностранные авторы не пользуются столь специфическим приемом.
Некоторая попытка объяснения трансформации женского характера дана в «Повести о семи мудрецах»: придворные вселяют в ум цесаревны идею избавления от пасынка: «И по нЕкоемъ времяни сказаша мачехЕ его... о цесаревЕ сынЕ... како бы его погубити мысляше» (С. 195). После этого образ супруги приобретает типологическую черту «злой жены»: зацикленность на поставленной безнравственной и жестокой цели. Однако почему героиня прислушалась к мнению придворных, зачем лично ей нужна смерть Диоклетиана, остается необъясненным. Читатель может лишь догадываться, что цесаревна озабочена вопросами наследования трона.
Автор «Повести о королевиче Валтасаре» не только не мотивирует внезапную перемену Флоренты, но даже противоречит логике развития этого характера. Прощаясь с супругом, жена «плакася горко на многъ час», но слова любви ее были, как уточняет автор, «лстивыми» (С. 402). Флорен-та просит супруга оставить на память его прекрасный портрет, и читатель ожидает некой злой хитрости, связанной с этой просьбой. Затем Валтасар видит через окно сцену измены жены. Однако любовник «образом зЕло неискусенъ» (С. 403) бьет Флоренту и заставляет ее порочить написанный лик супруга, что после отрицаний она с плачем исполняет, поскольку мужчина «велми нача ю принуждали». Ее слова при этом отнюдь не вы- дают недоброжелательности к мужу, а напротив: «Се начертание драгаго моего сожителника», - говорит она (С. 403). Жертва Флорента отнюдь не походит на тип злой, коварной супруги, но автор настаивает на этом определении, возвращаясь к описанию похотливости женщины: «Нача с нею на ложниц’Ь опочивати и что имъ годЪ творити» (С. 403).
Именно похотливость представляют авторы новелл главным качеством «злой жены». Мачеха в «Повести о семи мудрецах» склоняет пасынка к постыдному блуду откровенными речами: «О сладкий мой Диоклетиане, ты очию моею возгорание, ляги со мною и буди наслаждася моея красоты, и азъ да наслаждуся твоея доброты... обвесели мое желание» (С. 197). Более того, хитроумная царица держит при себе в образе девицы наложника, и автор без стеснения объясняет причину притягательности юноши для царевны: «Тайный же удъ его зТло велий есть, к нему же она возжделТние имяше и разжизание свое симъ утоляше похотное и любоблудное угашаше хотТние и услаждашеся» (С. 234). Такую физиологическую детализацию мы, безусловно, не могли бы встретить ни в одной оригинальной древнерусской повести, даже сатирического характера.
В «Повести о королевиче Валатсаре» помимо изменницы Флоренты читатель знакомится с похотливой царицей, изменяющей царю с «поползнем»; любовницей царя и Валтасара, тайно сходящейся с отроком, хоронившемся в сундуке; волшебной девицей из кольца, которая «рада бысть к растлению греха» (С. 407). «Повесть о царевиче Валтасаре» повествует именно о страстных блудницах, которые не совершают иных злодеяний кроме прелюбодеяния: они не пытаются сжить со свету законных мужей, а лишь наслаждаются страстью во всех ее проявлениях.
Большинство женских персонажей вставных новелл «Повести о семи мудрецах» - блудницы. Существенно, что автор вводит рациональную причину склонности женщины к «чюжеложству»: из-за преклонного возраста мужья «утЬшати не можаше» молодых жен «прекрасных лицем» (С. 213). Во второй и четвертой новеллах мудрецов бойкие и молодые красавицы изменяют своим мужьям, почитая это обыкновенным событием. Смеховая атмосфера позволяет автору повествовать об этом без элемента оценки и осуждения. Читатель погружается в пространство, где нет критериев добра и зла, есть лишь чувственные удовольствия: блуд здесь называется «потешением тЕла» (С. 203), «утЬхой» (С. 213), «хотЬнием» (С. 203). Изменница жена предает невинного мужа суду и с помощью «лукавых словес» (С. 205) после его смерти наследует с любовником все имущество - и автора, очевидно, восхищает ловкость героини. Или жена «рыцаря стара» возжелала вместо мужа любить попа, поведала свое желание матери, и та пеняет ей, что лучше бы любить дворянина, во избежание большого греха! Дочь оправдывает свою идею, открывая матери проблемы интимных отношений с супругом: «Егда спящу ему со мною, на ложи лежитъ, аки клада неподвижная» (С. 213). И хотя порой появляются формулы и топосы, представляющие блуд «возжделением похотным» (С. 207), «пламенем ярости несытьства» (С. 208), в новом сюжетном пространстве они уже не содержат того негативного смысла, который им был присущ.
Как говорилось выше, авторы новелл, намеренно или исподволь поясняя рациональные причины беззаконий женских характеров, тем самым оправдывают их. К примеру, речь цезаря к супруге, полная сладострастия и слабоволия, провоцирует цесаревну на злой умысел: «О вселюбезная и пресладкая..., утЬха и возждел’Ьние, прекрасная моя цесарева, ничтоже в поднебеснойточно красотЬтвоей, ничтоже ми любезиСетебе... что восхо-щеши да сотворю ти по воли твоей, но не буди же ми того, в чемъ преслу-шати тебе» (С. 195). В ответ жена задумывает жестокое покушение на пасынка: «Она же, вид’Ьвъ к себГ усердие цесарево и несумнЬнную сладкую любовь еже к себе, и дерзновение восприм же» (С. 195). Вспомним, что писал древнерусский книжник в «Беседе отца с сыном о женской злобе» об отношениях, в которых властвует женщина: «Зло и мужу тому, иже слушает жены!., мнози человецы грады многими владеют, а женам своим работают» (С. 488). И действительно, цезарь-отец склоняется к требованию жены повесить единственного сына, что осуждают даже его подданные, справедливо говоря: «Аще бы и сто сыновъ у него было не моглъ бы сего сотворили» (С. 199). То же отрицательное влияние женщины наблюдаем и в третьей притче мудрецов, где купец восклицает: «О, бТда ми, Что сотво-рих! Убихъ верную свою сороку для слова жены своея!» (С. 209). Таким образом, мы видим, что, по мнению иностранного автора, причиной дерзкой греховности жены является слабоволие мужа.
В «Повести о королевиче Валтасаре» сами положительные герои, обманутые мужья, имеют страстные помыслы. Валтасар, увидев ложе царское под деревом, «восхотТ от некоего помысла» (С. 404) подсмотреть за сценой любви. Царь вместе с королевичем Валтасаром, избавившись от жен-изменниц, заводят общую любовницу, безжалостно запирают ее в башне, лишь периодически посещая с известной целью, и после поражаются тому, что ей захотелось хотя бы подобия свободы, которую она пыталась найти в ласках отрока. На фоне положительных, но сластолюбивых героев похотливость героинь не выглядит вопиющей неожиданностью и беззаконием. К тому же Флорента и царевна подвергаются избиениям со стороны своих любовников, что вызывает скорее жалость к этим женским персонажам: «Поползень нача царицу ругати и бити по ланитома» (С. 404), любовник Флоренты «рыкнувъ на ню» «бияше ю по ланитома и ругается ей» (С. 403).
Несмотря на то, что сюжет новеллы, таким образом, тяготеет к амбивалентности: положительные герои не кажутся столь правыми, а отрицательные столь неправыми, авторы вносят в произведения рудименты традиционной идеи «злобы» женщины15. Писатели вкладывают в уста героев проклятия женской злобе в виде риторических восклицаний, усиленных корневым повтором: «О, злое острое дияволе оружие! О, зло всего злее злая жена!» (С. 406). Герои ссылаются на «Слова о злых женах», приписываемые Иоанну Златоусту.
Женщины также удостаиваются казни или забвения16. Столь печальный итог или умалчивание о последующей судьбе героини - типологическая черта образа «злой жены» также и в оригинальной древнерусской сло- весности. Флорента просто исчезает из сюжета, когда Валтасар покидает ее, царевна с поползнем, как и безымянная наложница с отроком, позорно расстреляны героями, а трупы их брошены псам. Еще более печален конец цесаревны «Повести о семи мудрецах», ее постигли публичное оскорбление: «О проклятая и блядемъ подобная» и позорная казнь: «ПовелЕл... к свирЕпымъ и необузднымъ конемъ привязали и скоро их гнати». Хотя, как считает ее супруг: «Подобна (достойна) еси ты, злострастная, тремъ смер-тем, а не токмо единой за свой великий грЕх и студ» (С. 234).
Таким образом, обобщая оригинальные особенности изображения типа «злой жены» в переводной новеллистической повести17, мы констатируем факт различия художественных методов новеллы и древнерусской повести XVII в., из чего и проистекает несходство18. Используя терминологию авторов сборника «Истоки русской беллетристики», можно сказать, что сюжеты оригинальных древнерусских повестей, которые задействуют тип «злой жены», телеологические, поскольку позиция автора в них сформулирована однозначно и авторское видение выстраивает недвусмысленную логику развития событий. Сюжеты новелл стремятся к амбивалентности, поскольку авторская позиция склоняется к объективности, и часто она лишена оценочное™. Эта особенность наиболее ярко проявляется в «Повести о Валтасаре королевиче» и новеллах мудрецов «Повести о семи мудрецах».
Однако переводная новелла знакомит читателя и с положительными женскими персонажами, добрыми матронами. В «Повести о семи мудрецах» антиподом главной героине, «злой жене» цезаря является эпизодический персонаж, первая супруга Елеозара и мать Диоклитиана, «дЕва суща, красна зЕло и велелЕпна» (С. 192, 193), преисполненная любви и мудрости. Последней волей умирающей царицы было материнское попечение о сыне: она просила мужа, когда тот женится второй раз («цесаревна» была дальновидна), отдать ребенка на воспитание мудрецам до его взросления. О положительном характере героини свидетельствуют также детали сцены ее упокоения, поскольку «6Е плача и кричания по ней много» (С. 193). Контрастность характеров усиливает добродетельность одной супруги и злонравие другой. Тот же прием наблюдаем в «Повести о королевиче Валтасаре», в которой единожды возникают образы доброй матери и жены купца, выделяющиеся среди множества жен-изменниц. Итак, в рассматриваемых новеллистических повестях положительные женские персонажи лишь эпизодически появляются в пространстве интриг и каверз «злых жен».
«Повесть о купце, заложившемся о добродетели жены своей», напротив, акцентирует внимание на идеальном женском характере19. Образ положительной Флорентин противопоставляется вне сценическим собирательным отрицательным персонажам купеческих жен, которым Амбросий дает следующую характеристику: «Показуютъ при юношахъ мяхкая глаго-лания и плясания, и радостны ся творят о похотной вещы» - что происходит, по его мнению, от праздной жизни в изобилии: «Жены во младости и во всяком изобилии оставлшиися, по своей воли живущия» (С. 81). Имен- но это противопоставление и рождает основной конфликт произведения.
Автор новеллы придерживается идеи взаимовлияния характеров мужа и жены, соответствия облика супруги природе мужа20. «Непостоянный и блудолюбивый» (С. 79) Амбросий имеет жену неверную, «добронравный и благоразумный» Викентий живет с супругой «добродЕтелной... мило-стивной и рассудителной» (С. 80). Как мы отмечали, некоторое внимание к этой идее проявляли и авторы вышерассмотренных новелл.
Флорентия, как и положительные женские персонажи древнерусской повести, хранит традиционный уклад жизни, который был изложен, например, в «Домострое»21. Ее моральные принципы имеют в основе религиозную систему ценностей: она «во всем благонравна и благочестива есть, понеже и крЕпкожителна». Люди говорят о ней как о «благочестивой и боящейся Бога» (С. 82), дети зовут ее «любезной матерью», слуги «пре-милостивой госпожой» (С. 87). Викентий также богопослушен: он негодует на непотребную беседу Амбросия о похотливости купеческих жен: «Кая ваша смехотворная словеса слышю и недоумЕваюся, и къ сердцу ихъ не прилагаю» (С. 80). Именно такое отношение к греху восхваляет апостол Павел: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас» (Еф. 5:3).
Существенен тот факт, что благоразумный Викентий любит жену именно за ее добродетели, не слепо: перечислив достоинства Флорентин, он восклицает: «И того ради азъ люблю ея всею душею моею» (С. 80). Супруг не одурманен женской красотой, что и подчеркивает в своей речи: если бы супруга не была добродетельна, то он «не токмо изрядною ея красотою возжделЕнъ не быхъ,... но никогда бы моглъ к ней возвратитися» (С. 81). Герой называет Флорентию своей вдохновительницей, именно ей он обязан богатством, успехом и счастливой жизнью, если бы она не поддерживала его, то он бы «быль с печали убогъ и безприютенъ, и блого-получия во своихъ купеческихъ дГлахъ с великия печали никогда имЕти моглъ» (С. 81).
Отношения супругов покоятся на истинах Новозаветного писания22, почему Викентий и уверен, что супруга «не вдастъ себе ко блудной похоти и не повинется (не покорится) воли не своего мужа» (С. 82). В послании к Коринфянам апостола Павла читаем: «Жена не властна над своим телом, но муж» (1 Кор. 7: 4) или «жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (Еф. 5: 22).
Для того чтобы охарактеризовать героиню, автор использует типичный для древнерусского книжника мотив молитвы героя, в которой проявляются особенности его характера23. Оставшись одинокой в лесу, Флорентия оплакивает «нелицемерную любовь» своего супруга, именуя его «дражайшим сожителем... и прелюбезным хранителем...младости и тлЕнныя красоты» (С. 85), «Богом дарованным пастырем» (С. 86). Как любящая мать она молит Бога о благочестивой жизни своих детей, с которыми несправедливо разлучена: «И коснися имъ с высоты славы твоея, сим сирым отроковицам, десницею твоею, и воздержи ихъ от всЕх злых творений» (С. 86). В заключение проявляется милосердие Флорентин, которая, под- ражая последней воле Христа, просит Господа о прощении людей, ложью и хитростью разлучивших ее с семьей: «Не постави им во грЕхъ сего, иже мя, злочастную, разлучиша от любезнаго моего сожителя и дГти наша осиротЬша» (С. 86).
Автор новеллы подобно древнерусскому книжнику рассматривает жизненные конфликты как противоборство добрых и злых сил в их борьбе за человека24. «Слышите, любимицы, сию притчю: идТже диаволъ не можетъ сотворили, той научить и послет человека, волю диаволю творя-щаго» (С. 82). Существенно, что помощником дьявола автор именует бабу-ворожею, помогающую Амбросию в исполнении его недоброго дела, а не самого зачинщика злого умысла! Традиционно именно «злая жена» воспринимается в литературе орудием дьявола, злодеяния мужчины не интерпретируются в таком ключе, хотя автор и называет героя «лстивым» (С. 88), поступок его «злым лукавством» (С. 88), карая его позорной казнью.
Как переодевшийся отрок Истван Флорентия прекрасной внешностью и смекалистым умом добивается расположения султана в Александрии: «Вельми удивися красотЬ лица его и многому разуму» (С. 87). Подобно отрокам на службе у иноземного правителя, Петру Златые Власы, Александру из новеллы об Александре и Лодвике, королевичу Валтасару, Флорентия делает успешную карьеру: «И бысть Истванъ повсюду славенъ и всТм началствующим и купецким люд ем знаемъ... и пребываше в вели-чествии» (С. 87). Когда скрытое стало явным, «царь же салтанъ начать дивитися з боляры своими доброму разуму и смиреномудрию жены Флорентин, яко в толикой печали и во многом сГтовании... уцЕломудрися и во всемъ служении своемъ царю салтану любима велми бысть» (С. 93). Данная перипетия, превращение женщины в юношу, прекрасно справившегося с мужскими обязанностями, исподволь выражает мнение автора о равенстве мужчины и женщины. Однако сильная и независимая Флорентия, ведущая жизнь царского приближенного Иствана, мечтает о том, чтобы вернуться к мужу и быть прощенной им. При этом мудрая женщина сама принимает решение остаться в послушании у супруга, поскольку это соответствует ее женской природе: «Она же яко добропослушная и добрая жена, рекла: «Тако буди воля господина моего надо мною! Не могу ослу-шатися его» (С. 85).
Восстановление Флорентин в женском облике автор представляет величественно: «И облечеся Флорентия в женское платие, и бысть велми прекрасна, добротою своею процветая, яко же доброплодный финикъ, и добронравиемъ украшался, яко маслина плодовита» (С. 93). Писатель делает акцент на единстве мира внутреннего и внешнего: красоту героини обусловливает именно ее добродетель, женщина украшается добронравием. По воссоединению после долгих испытаний вера супругов лишь укрепилась: «Нача жити в велицТй радости и в веселии, славяше Христа Бога и Пречистую Его Богоматерь. И от имения своего начата милостыню многу творити» (С. 94).
Таким образом, в «Повести о купце, заложившемся о добродетели жены своей» автор отстаивает идею чести женщины, ее способности постоять за себя и оправдаться. Он представляет героиню, которая выгодно отличается от окружающих ее персонажей мужчин своей честностью, силой, мудростью.
Список литературы Женские образы в переводной новеллистической повести XVII в
- Повесть о семи мудрецах//Памятники литературы древней Руси, XVII век. Кн. 1. М., 1988. С. 192-266.
- Повесть о королевиче Валтасаре//Библиотека литературы Древней Руси/под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, Н.В. Понырко. Т. 15. XVII век. СПб., 2006. С. 401-407.
- Повесть о купце, заложившемся о добродетели жены своей//Памятники лите-ратуры древней Руси, XVII век. Кн. 1. М., 1988. С. 79-94.
- Азволинская И.Д. Повесть о семи мудрецах (датировка древнейших русских списков XVII в.)//ТОДРЛ. 1981. Т. XXXVI. С. 255-258.
- Казовская И.Д. Комментарии к «Повести о семи мудрецах»//Памятники лите-ратуры древней Руси, XVII век. Кн. 1. М., 1988. С. 637-638.
- Орлов А.С. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства XII-XVII веков. Л., 1934. С. 122.
- Панченко А.М. Глава VII//Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе/отв. ред. Я.С. Лурье. Л., 1970. С. 543.
- Ромодановская Е.К. Комментарии к «Повести о королевиче Валтасаре»//Биб-лиотека литературы Древней Руси/под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, Н.В. Понырко. Т. 15. XVII век. СПб., 2006. С. 518.
- Ромодановская Е.К., Хайковская Е.Э. Комментарии к Повести о купце, зало-жившемся о добродетели жены своей//Памятники литературы древней Руси, XVII век. Кн. 1. М., 1988. С. 611.
- Державина О.А. Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII ве-ка. М., 1962.
- Панченко А.М. Глава VII//Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе/отв. ред. Я.С. Лурье. Л., 1970. С. 545.
- Дроздова М.А. Образ «злой жены» в произведениях древнерусской словесно-сти XVII века//Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. Т. 1. № 4. С. 9-15.
- Слово о злых женах//Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7. Вторая по-ловина XV века. СПб., 1999. С. 485-486.
- Титова Л.В. Беседа отца с сыном о женской злобе. Новосибирск, 1987.
- Шашков С.С. История русской женщины. СПб., 1879.
- Буланин Д.М. Древняя Русь//История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век/отв. ред. Ю.Д. Левин. Т. 1. СПб., 1995. С. 17-73.
- Анпилогова Е.С. Образ русской женщины по памятникам литературы конца XVI -начала XVIII веков//Исторические науки. 2006. № 3. С. 73-80.
- Люстров М.Ю. Новелла Боккаччо в русской и шведской версиях XVII века//Летняя школа по русской литературе. Т. 11. № 1. СПб., 2015. С. 14-18.
- Щапов А.П. Влияние общественного миросозерцания на социальное положение женщины в России//
- Щапов А.П. Сочинения. Т. 2. СПб., 1906. С. 55-101.
- Мамонова И. О принципе идеализации женского персонажа в произведениях древнерусской литературы//Мировоззрение славян и взаимодействие культур. Ханты-Мансийск, 2007. С. 317-325.
- Осоргин Н. Союз Адама и Евы как основание таинства брака//Русская женщина и православие. Богословие. Философия. Культура. СПб., 1996. С. 5-18.
- Омельянчук С.В. Образ женщины в древнерусской литературе//Вестник Липецкого государственного педагогического университета. 2011. Вып. 2 (5). С. 3-9. (Гуманитарные науки).
- Ужанков А.Н. Стадиальное развитие русской литературы XI -первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. М., 2008. С. 344.