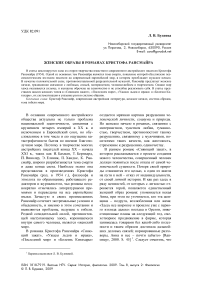Женские образы в романах Кристофа Рансмайра
Автор: Буднева Людмила Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется одна из сторон творчества известного современного австрийского писателя Кристофа Рансмайра (1954). Одной из основных тем Рансмайра является тема смерти, появление которой обусловлено пессимистическим взглядом писателя на современный европейский мир, в котором преобладает мужское начало. В качестве положительной силы, противопоставленной разрушительной мужской, Рансмайр предлагает женское начало, традиционно связанное с любовью, семьей, материнством, человеколюбием и творчеством. Однако мир хаоса оказывается сильнее, и женщина обречена на одиночество и не способна реализовать себя. В статье представлен анализ женских типов в «Сияющем закате», «Последнем мире», «Ужасах льдов и мрака» и «Болезни Китахары», их систематизация и указание роли в системе образов.
Кристоф рансмайр, современная австрийская литература, женское начало, система образов, тема гибели мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14737051
IDR: 14737051 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Женские образы в романах Кристофа Рансмайра
В сознании современного австрийского общества актуальна не только проблема национальной идентичности, связанная с крушением четырех империй в ХХ в. и включением в Европейский союз, но обусловленное в том числе и ею ощущение катастрофичности бытия во внешне благополучном мире. Поэтому в творчестве многих австрийских писателей конца XX – начала XXI в., таких как И. Бахман, Т. Бернхард, Й. Винклер, Э. Елиник, П. Хандке, К. Ран-смайр, широко разрабатывается тема смерти и даже конца света. Наиболее полно она представлена в произведениях Кристофа Рансмайра (род. в 1954 г.), философа и этнолога по образованию, работавшего редактором и журналистом, чьи романы неоднократно отмечались литературными премиями и переведены на все европейские языки. Зачастую в своих произведениях Рансмайр сочетает экстремальные условия и обыденность, и именно в этом сочетании и выявляются проблемы, ведущие к гибели. Редкой созидательной силой, противостоящей наступающему хаосу, коренящемуся внутри самого человека, является «женский мир».
В романах Кристофа Рансмайра «Сияющий закат», «Ужасы льдов и мрака», «Последний мир» и «Болезнь Китахары»
создается мрачная картина разрушения человеческой личности, социума и природы. Но женское начало в романах, связанное с материнством, чувством любви, гуманностью, творчеством, противопостоит такому разрушению, связанному с мужчинами, носителями таких качеств, как жестокость, стремление к разрушению, одиночеству.
В раннем романе «Сияющий закат», в котором рассказывается о проекте создания нового человечества, совершенный человек должен появиться после отказа от самой человеческой сущности. Потеря своей природы становится его целью, а один из шагов на пути к ней – отказ от индивидуальности, от своей личной истории. И как раз здесь в ряду ценностей, от которых с легкостью отрекается герой, появляется единственный женский образ романа: упоминается некая Анна, при этом не уточняется, кто эта женщина – подруга, возлюбленная или жена: «Здесь все широкое и прошлое уже с первого взгляда далеко: поездка в Орегон, инвестиционные планы на следующий год, смехотворное продвижение в фирме, которая занималась товарами без какой-либо полезности и таким образом достигала дальнейших деловых связей; нормированные разговоры, Анна и все – почти забыто» [Ran-smayr, 2000. S. 45] 1. Следует отметить, что такой отказ от индивидуальности, в том числе от сексуальной жизни, требуется от многих героев антиутопий ХХ в.: «Мы» Е. И. Замятина, «1984» Дж. Оруэлла и др.
Аналогичный сознательный аскетизм мы встречаем в следующем романе К. Ранс-майра – «Ужасы льдов и мрака» (1984), в котором рассказывается о длительной австро-венгерской полярной экспедиции. Ее участники отказываются от стабильной жизни – одни ради открытия новых земель, другие ради хороших наградных. Они выбирают непереносимый холод и одиночество для достижения великой цели, но почти у каждого остается на родине дом, семья: «Но всех окрыляет одно – сознание, что в борьбе за научные цели мы служим славе нашего отечества и что дома с живейшим участием следят за всяким нашим шагом» [Рансмайр, 2003б. С. 33]. А дом представляет собой прежде всего женское начало, именно женщина традиционно носительница домашнего очага.
Каждый мужчина в своем путешествии к цели, какой бы она ни была, высокой или прозаической, одинок, будь то лейтенант Вайпрехт, матрос Антонио Скарпа или его потомок Йозеф Мадзини, который сначала в мечтах, а потом в реальности идет по следам полярной экспедиции. Мечту о полярном путешествии в нем зародила его мать Лючия Скарпа, «восторженная итальянка» [Там же. С. 14], рассказывавшая об итальянских героях-путешественниках. В какое-то время Йозеф Мадзини, ведущий замкнутое существование мечтателя, сближается с Анной Корет, владелицей книжного магазина. Х. Мозебах видит в ее имени игру слов со словом «анахорет», что подчеркивает склонность Мадзини к отшельничеству. Позже, уже в начале своего путешествия к Земле Франца-Иосифа, герой пытается написать письмо, которое начинает словами «Дорогая Анна», но фразы выходят неловкие, поэтому листок становится лишь частью дневниковых записей.
Несколько позже вспоминается 35-й сонет Петрарки, который Мадзини читал Анне:
Задумчивый, медлительный, шагаю Пустынными полями одиноко;
В песок внимательно вперяя око, След человека встретить избегаю 2.
И Мадзини вспоминает школу, где заставляли учить наизусть, и голос Анны.
На Севере не место женщине, но даже суровые матросы вскоре начинают тосковать по женскому обществу. И тогда они ищут ласки хотя бы друг от друга или от корабельного врача, который прикасается к их лбу. Один из командиров экспедиции Юлиус Пайер в мрачные дни рождества, спустя шесть месяцев от начала путешествия, цитирует Лессинга: «Мы слишком привыкли к общению с противоположным полом, чтобы при полном отсутствии прельстительного не ощутить ужасающей пустоты» (УЛМ, 114)
Практически полное отсутствие женских персонажей в романе «Ужасы льдов и мрака» подчеркивает неприютность ледяных пустынь и одиночество и одичалость мужчин, готовых в конце экспедиции уничтожить друг друга, когда речь идет о командирах.
В следующем романе Рансмайра «Последний мир» (1994), несмотря на то, что мир женщин представлен гораздо более полно, доминируют мужские персонажи. Автор показывает их жестокость, грубость, дикость, насилие. Действие романа происходит и в Риме императора Августа, и черноморском городишке Томы, на краю мира, и в художественных пространствах, созданных воображением Овидия.
В описании женщин обращает на себя внимание то, что они в большинстве случаев некрасивы. Особенно подробно рассказывается о полноте Прокны, безобразии Филомелы и болезни Эхо. Прозерпина, невеста Дита, позволяет «пялиться» на себя мужчинам, как на корову. Полнота мясни-чихи Прокны является единственной защитой от побоев мужа: «Ее единственной защитой от Терея была растущая полнота, умащенный притираниями и душистыми маслами жир, в котором эта некогда хрупкая женщина пропадала» [Райсмайр, 2003а. С. 25]. Однако полнота этой женщины не мешает ей стать желанной для мужчины. Она становится любовницей худощавого немца Дита, местного знахаря и могильщика. Но оба ищут в этом союзе не любви, а возможности удовлетворения страсти и обретения карнавальной свободы: «Каждый превращал себя в свою сокровенную мечту и противоположность… в один из послед- них часов ежегодной свободы Дит-немец ласкал на камне большое тело мясничихи, корчился среди ее грудей и жировых наростов, будто желая вырвать из этого убежища, освободить хрупкое существо, что затаилось в глубине собственных жиров от грубости мира и Тереевой ненависти» [Там же. С. 69]. Заметим, что Дит – единственный мужчина в романе, который ощущает страдания, подобные тем, которые испытывают многочисленные женщины.
Сестра Прокны, Филомела, когда-то красивая юная девушка, была похищена Тере-ем, спрятана в горах и изувечена, чтобы не смогла выдать своего насильника: «Вместо рта у этой несчастной была мокнущая, в черных струпьях рана, губы разорваны, зубы выломаны, челюсти разбиты, язык вырван» [Там же. С. 210]. Она не обращает внимания на издевательства мальчишек, но съеживается от страха, если на нее падает даже тень мужчины. Именно появление Филомелы, признание ее Прокной приводит не только к катастрофе этой семьи, но и к разрушению всего мира.
Схожие страдания терпит Эхо, мучимая псориазом. Когда пятно болезни не задевает лица девушки, главный герой замечает, что она невероятно красива, но недуг путешествует по всему ее телу и обезображивает серым шелушением ее кожу. Также Эхо постоянно мучают нестерпимые головные боли, что «были отголосками мирского шума» [Там же. С. 79]. К телесным недостаткам Эхо можно отнести и то, что она не может отвечать на вопросы практически никому, а способна только повторять последнюю сказанную фразу. Однако эта особенность вполне устраивает мужчин города, которые приходят к ней за любовью, потому что она никогда не выдаст их тайн.
Женщины романа лишены не только телесной красоты, но и возможности реализовывать себя как любящих жен и матерей. Алкиона вынуждена страдать по покинувшему ее Кеику, Прозерпина, невеста Дита, не может спасти его, как ни старается, от душевной боли, Кианея ждет Назона в разрушающемся доме, Прокна терпит побои Терея. Следует к этому добавить, что, кроме босоногих безымянных ребятишек, нападающих на Филомелу, в романе описываются только два ребенка: эпилептик-идиот Батт, сын торговки Молвы, и ребенок Терея и Прокны Итис.
Образы этих мальчиков открывают путь к пониманию не только их матерей, но и окружающего их мира в целом, потому что рассказ об их судьбах раскрывает суть общества городка Томы. Известно, что Молва пыталась извести маленького Батта, но потом, когда мальчик подрос, она по-своему старается вписать его в жизнь: приносит Эхо подарки, чтобы та одарила его своей любовью. Камень, в который превращается Батт, она делает монументом своему сыну и делает это не из меркантильных побуждений, как многое, а из любви и преклонения перед чудом и своим горем.
Таким образом, только родительские чувства являются подлинно теплыми, и такие чувства объединяют Молву с Прокной и Тереем. Они любят своего сына, но судьба этих героев схожа с историей, рассказанной в «Метаморфозах» Овидия. В «Последнем мире» Итис обрисован как любопытный мальчик, который находится под постоянной опекой матери и которого любит отец. Поэтому для Терея убийство его сына является страшнейшим наказанием. При этом единственное возможное спасение для Про-кны и Филомелы – утрата собственной сущности, превращение в птиц. С окаменением Батта и убийством Итиса прекращается продолжение рода для основных героев романа, рушатся надежды на продолжение жизни.
Душевная красота женщин выражается и в их деятельности как помощниц и созида-тельниц. Прокна помогает совершенно пьяному Марсию, когда вытаскивает его из поилки для скотины, куда его бросил Терей и где бы он неминуемо захлебнулся. Тот же Марсий приходит к Эхо, единственной женщине, которая не побрезговала бы им и не прогнала. Эхо наводит порядок в доме Ли-каона. Арахна ткет прекрасные гобелены на сюжеты, подсказанные Назоном. Мужчины же выступают как разрушители: Марсий, не нашедший Эхо, уничтожает ее жилище, Те-рей убивает скот, Финей спаивает жителей Том. Своеобразной помощью мужчинам города можно рассматривать ремесло Эхо, которая на какое-то мгновение вырывает мужчин из замкнутого круга последнего мира: «Пастухи и рудоплавы иногда под покровом темноты навещали Эхо в ее трущобном жилище, чтобы в ее объятиях, вдали от склочных, замученных жен, претерпеть метамор- фозу и стать младенцами, господами или зверьми» [Рансмайр. 2003а. С. 80].
Сама же Эхо стремится к любви настоящей и чистой, которую, кажется, обретает с Коттой. Однако и этот герой, пришедший из другого мира, из Рима, оказывается таким же жестоким, грубым и похотливым, как и все прочие мужчины.
Верными спутницами своих мужей являются женщины, которые живут вне Том. Это Алкиона, Кианея и Пирра. Все три героини представляют собой преданных подруг, которые готовы повсюду следовать за мужьями. Но Алкиона и Кианея теряют мужей навсегда, при этом первая отказывается ради ожидания от власти и благополучия и в награду получает истлевший труп своего мужа. Кианея охраняет дом Назона, но не может его спасти. Сила разрушения оказывается сильнее любви и преданности, и с гнездом Назона происходит то же, что и с человеческим телом после того, как его оставила душа.
Пирра, супруга Девкалиона, – последняя женщина на земле, спасшаяся после всемирного потопа, героиня рассказанной Эхо истории, якобы написанной Назоном. Ран-смайр делает акцент на том, что спасение после гибели человечества чуть ли не самое страшное наказание, связанное с ужасом абсолютного одиночества. В отличие от рассказа Овидия, в романе австрийского писателя нет воли богов, помогающих людям. Пирра и Девкалион механически бросают камни в грязную жижу, и оттуда начинает появляться новое поколение людей, «истинное человечество, исчадие минеральной твердости» [Там же. С. 130], человечество, полностью лишенное чувств, жизни. Последние люди на земле дают жизнь человеку, возникшему из камня.
Иные отношения с миром у героинь романа Рансмайра «Болезнь Китахары» (1995), основное действие которого происходит в австрийской деревушке Моор после второй мировой войны. Рансмайр конструирует мир, в котором реализовался план победителей: отправить побежденного агрессора в каменный век. Жители Моора, бывшие солдаты, беженцы, лагерные работники и наравне с ними женщины и дети, должны бороться за выживание, в то время когда весь остальной мир живет в благополучии. Мо-орцы расплачиваются за всех. Темы вины и наказания становятся центральными в романе.
Основной персонаж, несущий в себе комплекс вины за преступления мужчин Мора, – мать главного героя Беринга, жена местного кузнеца, которая рожает своего младшего сына в день единственной бомбардировки селения. В этом ей помогает беженка, полька Целина, которая во время бомбардировки и родов молится Черной Богоматери о воздаянии Моору, который вверг своих мужчин в войну. Именно Целина нашептывает в крохотные кулачки младенца Беринга чувство вины, которое в зрелом возрасте превратится в болезнь глаз. Именно Целина, убитая через несколько дней, ставшая первой жертвой мирного времени, станет вечной спутницей матери Беринга, ее посредницей перед Богоматерью.
Мать Беринга, потерявшая двух старших сыновей, в обычной жизни очень нерешительная женщина. Она даже навстречу мужу, вернувшемуся из плена, идет робко и смущенно, она плохо его знает: «Они ведь не успели толком познакомиться» [Ран-смайр. 2002. С. 24]. Но в вере своей, в служении Богоматери она неудержима и истова: искупая грехи, жена кузнеца отказывается делить с ним комнату, «да и в другие комнаты заходила только после его ухода, мяса в рот не брала, …а каждую искру, вылетевшую из печного зольника, считала знамением свыше» [Там же. С. 50].
Апогеем жертвенности становятся многомесячное добровольное заточение себя в подвале и практический отказ от пищи ради молитвы за спасение души сына. Как и всегда в произведениях Рансмайра, никакие добровольные страдания и молитвы не помогают героям, потому что прощение приходит не извне, а от самого себя. Мать оказывается на это не способной и умирает. Но и после смерти женщина противопоставляется мужчине: после похорон рабочие кое-как закидали могилу землей, «мол, для женской могилы и так сойдет» [Там же. С. 248].
Полностью противоположна матери Беринга, да и всем женским образам Рансмай-ра, дочь военного преступника Лили, или Бразильянка, как ее называют в Мооре. Прежде всего, она верит только в себя, она активна (зарабатывает себе на жизнь контрабандой), независима, бесстрашна, добивается своей цели (уезжает в Бразилию)
и остается жива, в отличие от своих друзей мужчин, которых мучает чувство вины, что, по сути, приводит их к гибели.
Лили противопоставляются двое мужчин, ее друзей, Амбрас и Беринг. Амбрас слабее Бразильянки физически, а Беринг – морально, он, неопытный мужчина, всегда оказывается ведомым в их псевдолюбовных отношениях.
Автор подчеркивает, что Лили не лишена доброты: она опекает отца Беринга, который отказывался принимать помощь от своего сына, она помогает Амбрасу, который не может сам смазывать свои раны. И в своей доброте и способности помогать она объединяется с остальными женщинами, описанными в романах Рансмайра.
Подводя итог, можно сказать, что в романах Кристофа Рансмайра при всей пессимистичности авторского сознания находится положительная сила, противопоставленная и как бы существующая автономно от хаоса, – это женские персонажи, хотя и обре- ченные в мужском мире на одиночество и не имеющие возможности реализовать заложенные в них добрые начала.
FEMALE CHARACTERS IN THE NOVELS BY CHISTOPH RANSMAYR