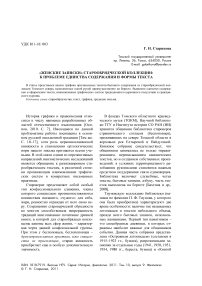«Женские записки» старообрядческой коллекции: к проблеме единства содержания и формы текста
Автор: Старикова Галина Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ графики оригинальных текстов бытового содержания из старообрядческой коллекции Томского севера, выполненных одной рукой преимущественно на бересте. Выявлено единство содержания и оформления текста, взаимовлияние графических систем традиционного церковного полуустава и гражданского курсива.
Старообрядчество, текст, графика, традиции письма
Короткий адрес: https://sciup.org/14737617
IDR: 14737617 | УДК: 811-16:
Текст научной статьи «Женские записки» старообрядческой коллекции: к проблеме единства содержания и формы текста
История графики и правописания относится к числу наименее разработанных областей отечественного языкознания [Осипов, 2010. С. 7]. Имеющиеся по данной проблематике работы посвящены в основном русской письменной традиции [Там же. С. 10–17], хотя роль церковнославянской книжности в становлении ортологических норм нашего письма признается всеми учеными. В этой связи одним из перспективных направлений лингвистических исследований является обращение к разножанровым старообрядческим текстам, в различной степени проявляющим взаимовлияние графических систем в конкретных письменных практиках.
Староверие представляет собой особый тип конфессионального единения, члены которого сознательно противопоставляются новшествам внешнего, «чужого» для себя, мира, ревностно ограждая от него свою веру. Сохранению староверческой обрядности во многом способствовала непрерывность традиций книгописания: почитание древней книги, в которой для старообрядцев воплощены каноны всех сфер жизни, – характерная черта данной конфессиальной группы. При этом у беспоповцев, беглопоповцев – древлеправославных христиан, иже священства не приемлющих , старая книжность приобретает еще и особую дополнительную значимость.
В фондах Томского областного краеведческого музея (ТОКМ), Научной библиотеки ТГУ и Института истории СО РАН (ИИ) хранится общинная библиотека староверов страннического согласия (беспоповцев), проживавших на севере Томской области в верховьях рек Елтыревой и Пайдугиной. Книжное собрание свидетельствует, что общинники занимались не только тиражированием, переписыванием канонических текстов, но и созданием собственных произведений: в условиях территориального разобщения рукописание становится важным средством поддержания связи единоверцев. Библиотека включает служебные, четьи тексты, бытовые записки, азбуку, часть текстов выполнена на бересте [Бахтина и др., 2008].
Тиуновскую коллекцию библиотеки (названа по фамилии П. Ф. Тиунова, у которого она была приобретена) характеризуют две яркие особенности: наличие так называемых летописцев и текстов небольшого объема, прежде всего бытовых записок, исполненных женщинами. Первый тип памятников – это своеобразные дневники, в которых отражены наиболее важные для общинников события. Данная часть собрания представлена «Островным летописцем» (составлен в 1915–1923 гг., бумага), разрозненными записями за отдельные годы (1941, 1950, 1951, 1954, 1980 гг., береста, бумага) и «Книгой
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © Г. Н. Старикова, 2011
пасхальной» (1956–1975 гг., береста). Вторая группа памятников – хозяйственно-бытовые записи, частушки, отрывки из песен, письма, пробы пера. К анализу были привлечены оригинальные тексты одной руки (предположительно, Н. Ф. Коноваловой, умершей в 1982 г.): «Книга пасхальная» (ИИ. Ед. хр. 2/92), записи разного рода (ТОКМ. Ед. хр. 7059, 7106, 8621/1–1335, 12676/31–41). Памятники демонстрируют два вида графической выучки автора текстов – традиционную церковную и гражданскую курсивную – и потому могут служить уникальным материалом для исследования взаимовлияния как типов графики, так и книжной и бытовой форм культуры письма.
Известно, что в старообрядческой среде высоко ценится умение читать и писать «по-старинному», поэтому обучение грамоте строится на основе жизненно важных религиозных текстов, прежде всего Псалтыри. Именно на церковное письмо ориентирована писанная на бумаге азбука из данной коллекции – « нача1льное u3че1ніе хотzщимъ u3чи1тисz чте1ниію кни1гъ б9еcтвенному пи-са1нію » (ТОКМ, 7360). Отсутствие раздела с курсивными начертаниями букв, слогов, слов свидетельствует об особой значимости полуустава для старообрядцев, как наиболее соответствующего содержанию священных книг. Построенная по типу признаваемой староверами «Азбуки» В. Бурцева, данная учебная книга не является ее буквальной копией, различаясь составом и порядком букв, списком просодий и их названий. Влияние гражданицы выразилось во введении в алфавит буквы Э, вынесении в отдельный список некоторых дублетов ( W , T , Z , F , V ) и букв P , X , что может служить показателем осознания их особой роли в церковном письме, содержательным сигналом текста. Интересно, что диграф оник ( U ) употреблен в названии азбуки, но отсутствует в перечне букв, где У передана уком ( у ) и иком ( μ ).
Судя по дошедшим до нас записям, девочка училась грамоте в соответствии с правилами «книжного письма»: «uчюсz писат / проба рμки» (ТОКМ, 12676/32). Неустойчивость навыков выразилась в разновариантном написании повторяемых слов (гди, гд7и, гдCи, го7съподи; руки, рμки), в том числе при сокращении слов (блгcви), не осознаваемом до конца употреблении ряда букв (pсал- тырь). Уже в этой записи отмечены еровые вставки в сочетания согласных: цыпμшъки, вышъли. Гласные вставки – яркая черта ее бытовых записей, относящихся к подрост- ковому периоду, что отражает, навыки «раздельноречения» при вероятно, озвучива-«дывесыти
нии церковнославянских текстов:
иічикъ / ровына сынисыли курочики щитала на / пасыхи вчитыверытыи днь вечерочи / камъ … пи / z сала (так!) ета .ни.7 году начитыринадисzтымъ году / была … /.зμн7f. z3 была f .еi7. годе перывый / готъ u3чиласz ткать (ТОКМ, 12676/35). В этом также можно усмотреть влияние слогового принципа обучения, представленного в азбуке. С годами эта черта уйдет из ее записей, ср.: «.ацx7д. го1да … последний дн7ь пасхи было ти1хо z4сно / и3те1пло была u3нас8 праксеюшка вгостz<» (ТОКМ, 7106).
Знакомство с каноническими текстами, их чтение и копирование, способствовало выработке у автора записок следующих черт письма, характерных для позднего полуустава:
-
1) преобладание слитного написания предлогов, частиц, некоторых союзов и местоимений с соседними словами;
-
2) отсутствие прописных букв, даже в начале записи;
-
3) правильное, но не регулярное употребление диакритиков – титла, оксии, варии, паерка, краткой, звательца, знака тысячи в датах, из которых последовательно отражены лишь два последних и точки над иже ; титло (и словотитло) может ставиться и над несокращенными словами – солн7цу (ИИ, 2/92. Л. 9), воскриcсеніе (Там же. Л. 9 об.), бла7-годарю (Там же. Л. 13 об.);
-
4) редкие знаки препинания – точки, запятые, двоеточие, точка с запятой, названная в азбуке « вопросителнаz », призванные вычленять смысловые части текста, причем наибольшая системность в употреблении выявляется у первых двух знаков;
-
5) наличие выносных букв, чаще конечных согласных ( к , л , м , н , с , т , х );
-
6) отсутствие знаков переноса, при этом переносы на согласные единичны ( теп / ло, заш / ла , нес / третить (ИИ. 2/92));
-
7) передача дат, чисел, в том числе порядковых числительных, буквами ( мы жили а7ю весну нановом месте всестринай и3збе (ТОКМ, 7106)) и лишь в одном из памятни-
арабскими цифрами (ТОКМ,
ков
–
12676/36);
-
8) неотраженность мягкости согласного ерем в позиции перед другим согласным ( маленко , впонеделник8 , толко , ср. ее отражение в конце слова: печаль , дождь , день , писать (ИИ. 2/92. Л. 6–7);
-
9) практически полный набор церковнославянского варианта кириллицы, что требует более детального представления, поскольку в употреблении, начертании ряда букв ярче всего проявляется индивидуальное начало письма.
Так, буквы зело и кси женщина использует только в числовом значении, то же относится и к фите , лишь дважды употребленной в словах f , fевраль , по одному разу в пробе пера зафиксированы пси и ять , причем оба слова написаны с ошибками: pсалтырь , студёно . Иже , за редчайшим исключением, пишет с двумя надстрочными точками, язычок у есть – в виде точки, не соединенной с полуовалом, ук – в три приема, когда нижняя часть не образует замкнутого овала или круга. У буквы Щ всегда удлинена средняя штанга, Ц в датах нередко принимает вид Ч (с прямой второй штангой), как это было принято в рукописях до XVII в.
Как графические дублеты, передающие одинаковые звуки, употребляет z и я , о и w , и и i , у , u и μ . В первой паре наиболее частотна z , причем в позиции после согласного ( всz , сполднz ) и гласного ( проzвилас , какаzта ) в слове она единственно возможна, а в его начале на равных употребляется с я . Например, в «Книге пасхальной» слова ясно , ясный на л. 10 пишутся только через я (5 употреблений), на л.11 об. – лишь через z (2 раза), а на л. 12 – 2 раза с я и 3 – с z , на л. 6 – 3 и 1 соответственно. Дважды в окончаниях употребляет близкое к современному написание этой буквы (Там же. Л. 11 об.). Личное местоимение во всех записях безва-риантно передается юсом. О встречается повсеместно ( тоже , о3сталасz ), тогда как w – начальная буква ( w3блачно , w3не , w3дна ), изредка употребляемая в середине слова ( tw3шла ), причем в обоих случаях предложные сочетания могут оформляться по-разному, ср.: восинник и сw3личк(о)й , наw3строву и поо3дной . T употребляется в предлоге и приставке tw3шла tнасъ сестрица (Там же. Л. 7); tтуда (Там же. Л. 12 об.), при этом возможны написания w3тошла (Там же. Л. 9), tче (Там же. Л. 11).
При явной тенденции употребления иже перед гласными и Й, отмечены и случаи за- мены ее на И в этих позициях: июля, всzкиz, воскрcние. В «Книге» при передаче Й может использоваться И с отсутствующей краткой:
веселыи zсный (Л. 1), состарицаи болной (Там же. Л. 6). Ук пишется во всех случаях, кроме начала слова: суда, деушка, пасху (Там же.
Л. 1), хотя после предлога на согласный также может начинать слово – сутра (Там же. Л. 8). Позиция для ика и оника – началь- ная, системы в их употреблении нет, ср.: uшла (Там же. Л. 12), uвозили (Л. 11), uакошичка (Там же. Л. 3 об.) и μшли (Л. 1), μехали (Там же. Л. 12 об.), μакошичка (Там же. Л. 2 об.).
Отмеченные особенности графики вкупе с использованием большого количества ди- акритиков в текстах позволяют сделать вывод, что книжно-церковная выучка исполнительницы записей основана на образцах старорусского полууставного письма. При этом наблюдается не вполне осознанное употребление ряда графем, нарушается логика использования парных букв, титла. Система арабской цифири освоена не до конца: дважды путается в цифрах 2 и 3, 6 пишет в зеркальном отражении (ТОКМ, 12676/36).
Исполненные в данной графической системе тексты различаются тщательностью письма – от небрежно-размашистого в коротких записках-памятках для себя до достаточно строгого геометрического, рассчитанного на чтение другими лицами. Но во всех случаях сохраняются элементы звукового письма, отражающего редукцию без- ударных гласных в разных позициях, диссимилятивно-ассимилятивные процессы (хто, u3ижать, и3ти, трафка, збазы), упрощение групп согласных (госью, празники (ИИ, 2/92)), стяженные местоименные и глагольные формы (всzки пташачки, е3дин гдcь знат (ТОКМ, 7106)) и др. Все эти черты отражены и в адресованных ей письмах: «сестрица наталіz пра/хади (так!) ве(че)ровать м(ы) тибz бу/демъ ждать z2 ба сра/досью пришла ну какъ и3тти / нада самопрахμ тащить / атибе то вить можна т(ы) / вzжишъ» (ТОКМ, 12676/21) и «прошу вас наташа / неоткажите маёй прозьбы / но-пишите хотя небольшое письмо» (ТОКМ, 12676/18). Безусловно, лексический состав текстов, по которым шло обучение грамоте, не мог выработать норм правописания бытовых слов, ср. всегда правильное написание слов воскресение, вознесение, десница, свzтаго и нешипко, радиво, трахтора, какова (ИИ, 2/92).
Наиболее последовательно книжная выучка отразилась в короткой дневниковой записи 1980 г. (ТОКМ, 12676/31). Вводная фраза (начинаю писать о3своемъ / горе) впервые и единственный раз за все годы пасхальных записей отодвигает праздник на второй план, главным становится лично затрагивающее ее несчастье – смерть отца. Сообщение о кончине старца, строго держащегося, по воспоминаниям современников, до конца жизни древлеправославия, сознательно оформлено по канонам конфессионального письма, как это было принято в житийных текстах позднего средневековья. Два события подаются связанными по времени, что придает первому из них особую значимость:
.а7чп7и. года.. высокосъ. / ключь границы .в.7 пасха была / марта .кд7.. е3тотъ годъ мои отцъ / е3ще прожилъ последнюю пасху. / е3ле ходилъ бо1ленъ нипиталса / ничиво. и3попасхе вовто1рникъ / .е7. недели .кг7. а3прелz геw3ргіz. / вечером сканчалъ свое жітіе. / на-во1семдесzть девz1тымъ / году. Пасхальная неделя не описана, нет упоминаний о хозяйственной деятельности.
Это запись в 19,5 ровных карандашных строк с последовательным употреблением конечного ера после твердых согласных и членением текста знаками. В роли последних выступают срединнострочные точки, змийца, горизонтальные одиночная и двойная черта. Строки выделяют границы фразовых смысловых отрезков и собственно предложения: (.пожилъ после своей ста/рицы. .д.7 года идва месеца.), конец строки (дн7ь / и3нощь страдаю и3горкіz сле1зы. / проливаю= =). В последней функции точка не употребляется после слов, заканчивающихся на Ъ, что доказывает исполнение для пишущей этой буквой роли конца не только слова, но и строки, ср.: месеца./, пасху./, сле1зы. / и о3своемъ/, вовто1рникъ/, девz1тымъ/. Как змийца, вводившая обычно в старорусских текстах прямую речь, интерпретирована вертикальная черта, отделяющая вступительное предложение от текста сообщения. Знак двойной черты употреблен в конце первой страницы, одиночных
–
в кон-
це строки и текста. Звательце проставлено над всеми начальными гласными буквами и над w в слове геw3ргіz. Акцентовка слов, хотя и не носит регулярного характера, отражает правильную постановку оксии (бо1ленъ, вовто1рникъ, наво1семдесzть девz1тымъ) и ва-рии (свое2, и3куда2). Двойной диакритик – исо – над местоимением z4, титлованы буквоциф-ры и два существительных – дн7ь и wтцъ. Из дублетных букв употреблены о и w (первая повсеместно, вторая в начале слова и после гласного в геw3ргіz), и и і (вторая перед гласными и после согласного в жітіе, хотя в других словах этот корень пишет через и: прожилъ, пожилъ, жизнь, жить). Я во всех случаях передается юсом, У – уком, позиций для парных им графем нет. Перенос единственный – на гласную: ста/рицы.
Текстов, исполненных курсивом, в данной коллекции существенно меньше: это пробы пера, короткие записки, памятки на бересте или бумаге. Такое письмо всегда небрежное, линии строк не выдержаны, как и размер букв. Алфавит гражданский, современный, числа переданы арабскими цифрами. Редкий ер возможен лишь в пробных начерках, где скоропись соседствует с полууставом: незнаю какъ / незнаю что писать перо непи/шет ъ (ТОКМ, 12676/36). Из более пространных текстов ее руке принадлежит запись двух куплетов песни «Катюша», выполненной на бересте и вложенной в «Книгу»: « пусть он вспомнит деушку / чюжую пусть услышит как он(а) пает / пусть он землю биригет радную / а любовь катюш(а) збережот».
Курсивом оформляется личная, интимная информация, не рассчитанная на чужие глаза и уши: так я живу век проживаю а писать не знаю зачем так на свете жить... где мои годы мои маладыя гдета ой улетели далека (ТОКМ, 12676/27). Осознание несоответствия данного типа графики конфессиональным текстам выражается его использованием в черновых записях, представленных в берестяном дневнике – своеобразном первом опыте «Книги»: писала вниколин / день и был мрак / облаки ходили / ветру не было инес / тудено (ТОКМ, 12676/36).
«Книга пасхальная», являясь по сути дневником, не скована строгими рамками содержания и, соответственно, формами графики. При этом она продолжает традиции летописания, заложенные в общине
«Островным летописцем», и в этом смысле канонична. Это ее качество проявляется в заданности структуры записи: в таком-то году Пасха была тогда-то, далее идет подневное описание погоды на праздничной неделе, дополняемое указанием на значимые события данного периода или прошедшего года вообще. Эти записи обычно вы- полняются полууставом, курсивом же оформлены рефлексии по поводу написанного, ср.: е3ту пасху стричала и3праважала / z4 w3дна о3сталасz одна разедина / сходить мне было некуда дома я / сидела горки слезы проливала (Там же. Л. 3 об.). Или: .ацx7и. года .в7. апрелz получила дусz смерть / о3синью пришолъ петя и3все обетом сказал (Там же. Л. 5).
Обращение к записям, исполненным одной рукой, показывает, что текст и его графика в старообрядческой среде составляют нерасторжимое единство. По канонам церковного полуустава оформляется информация, осознаваемая как значимая конфессионально. Современный гражданский курсив – прерогатива бытовых записей, что в явном виде представлено в «Книге пасхальной», в силу разнородности ее содержания. Взаимо-влияя, две графические системы дополняли друг друга в письменной практике автора записок. Так, влияние церковнославянской графики на гражданскую выразилось в не- последовательном употреблении прописных букв, Ь в середине слов для обозначения мягкости предшествующего согласного, не-дописанности слов, пусть редкого, но все же возможного буквенного обозначения чисел. Обратное воздействие можно усмотреть в часто безразличном употреблении дублетных букв, полнобуквенном написании традиционно сокращаемых слов, использовании арабских цифр. Таким образом, учет разнородных по типу начертаний повышает информативность данных источников.
«WOMEN’S NOTES» OF THE OLD BELIEVERS’ COLLECTION: THE PROBLEM OF THE UNITY OF THE CONTENT AND DESIGN OF THE TEXT