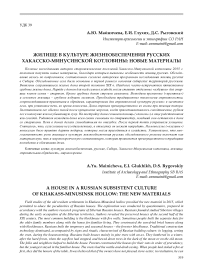Жилище в культуре жизнеобеспечения русских Хакасско-Минусинской котловины: новые материалы
Автор: Майничева А.Ю., Глухих Е.И., Рыговский Д.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XXI, 2015 года.
Бесплатный доступ
Полевые исследования авторов старожильческих поселений Хакасско-Минусинской котловины 2015 г. позволили получить новые материалы, благодаря которым выявлены особенности жилищ русских. Обследование велось по вопросникам, составленным согласно авторским программам исследования жилищ русских в Сибири. Обследованные села были основаны в период раннего освоения сибирских территорий русскими. Выявлены сохранившиеся жилые дома второй половины XIX в. Наиболее часто встречаются пятистенные срубные жилые дома. Наряду с домом для всей семьи в усадьбе могли ставить отдельные «избушки» для старших членов семьи - стариков. Кроме срубных домов строили саманные. Возводили временные («времянки») и сезонные жилища - срубные избушки лесников. Преобладали традиционные технологии строительства, сопровождавшиеся приметами и обрядами, характерными для строительной культуры русских: в заготовке леса, при установке печи, во время новоселья. Дома строили преимущественно из сосны при помощи топора. Заготавливали лес обычно зимой после крещенских морозов, когда приостанавливалось сокодвижение, рубили лес в новолуние или на убывающую луну. На постройку дома созывали помощь («помочь») в лице родственников или соседей. Родители возводили дома всем своим сыновьям по старшинству, младший сын оставался в доме со стариками. Печи в домах делали глинобитными по опалубке. После первой топки устраивали угощение. Считалось, что, если хозяева не угодили печнику, в отместку он может навредить. На новоселье («влазины») новоселам было принято дарить подарки, которые могли пригодиться в хозяйстве. Установлено, что многоаспектность роли жилища в культуре жизнеобеспечения русских обследованного региона включает как материальную, так и мировоззренческую составляющую, которая проявляется преимущественно в традициях возведения и обживания дома.
Культура жизнеобеспечения, русские, сибирь, хакасско-минусинская котловина, жилище, строительная обрядность, мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/14522291
IDR: 14522291 | УДК: 39
Текст научной статьи Жилище в культуре жизнеобеспечения русских Хакасско-Минусинской котловины: новые материалы
Жилище является существенным компонентом культуры жизнеобеспечения русских, который требует глубокого изучения и установления его характерных черт в различных регионах. Полевые исследования русских старожильческих поселений Хакасско-Минусинской котловины (сс. Лугавское, Знаменка Минусинского р-на Красноярского края), проведенные авторами в 2015 г., позволили получить новые материалы, благодаря которым можно выявить особенности жилищ русских как части культуры жизнеобеспечения, включая ее мировоззренческий аспект. Обследование велось по вопросникам, составленным согласно авторским программам исследования жилищ русских в Сибири [Майни-чева, 2009; Майничева, 2013; Майничева, Глухих, Рыговский, 2015].
Обследованные села были основаны в период раннего освоения сибирских территорий русскими. С. Знаменка отметило свой 200-летний юбилей, а с. Лугавское – 300-летний. В Лугав-ском сохранились жилые дома второй половины XIX в. Наиболее часто встречаются пятистенные срубные жилые дома («пятистенки»). Местные жители пояснили: «Пятистенок так назывался не потому, что у дома пять стен, а потому, что внутри четырехстенного дома была капитальная перегородка из бревна». Несущая бревенчатая стена внутри такого дома разделяла помещение на горницу (теперь называют «зал/а/») и кухню (местн. «изба»). Горница считалась парадным помещением. Старожилы вспоминают: «Был один дом на краю деревни, где вход был через горницу, жила там Агафья, так к ней заходишь в этот дом через сени и сразу видишь высокую и богато убранную кровать. На этой кровати всегда было четыре подушки с вязаными прошвами, сама кровать застилалась с подзором. Во всех горницах были такие кровати» (здесь и далее – ПМА, 2015, если не указано другое). Красный угол с иконами («божничкой») в старых домах называли «угольник» или «уголок», его всегда украшали вязаной скатертью. Дома-пятистенки были разного вида и имели разные названия: «дом на связи» или «крестовый дом» – это пятистенок, конструкция четырехскатной крыши которого представляла собой особое соединение бревен в замок, носящее название «крестовая связь»; «дом на две 520
половины» – это пятистенный дом с четырехскатной крышей на две семьи: «В каждой половине пятистенка, отделенной бревенчатой стеной, имеются кухня и горница, сени в таких домах являются общими, а крыльцо у каждой семьи свое». В домах на две половины сени не отделяли одно жилое помещение от другого, а примыкали сбоку в отличие от «домов со связью», в которых сени располагались между жилыми помещениями. Сени в крестовом доме занимали большую площадь, чем жилые комнаты, в них обычно располагалась кладовая (местн. «кладовка»). Крыши домов были сделаны из теса на два или на четыре ската по стропилам с широкими карнизами и резными «ливневками», т.е. водостоками. Двухскатные крыши называли «по-амбарному».
Дома строили из сосны при помощи топора. Заготавливали лес, как правило, зимой после крещенских морозов, когда приостанавливалось сокодвижение, рубили лес в новолуние (некоторые жители с. Лугавское утверждают, что лес рубили на убывающую луну). Местные старожилы отмечают: «Для собственных нужд лес раньше заготавливали всегда, хотя специальных лесных угодий здесь не было, разве что Знаменское лесничество (рядом с с. Знаменка). У нас-то одни богатства – песок, да гравий, леса мало. Когда появились лесхозы, землю выделяло государство, на общественном совете решали, где кому построиться, и лес не рубили, где придется». Лес на постройку дома заготавливали так: «Валили деревья в тайге зимой, обрубали с них на месте сучки, а увозили на лошадях к реке только весной, там снимали шкуру, а затем сплавляли на плотах с р. Сизой. Чтобы досушить лесину, ее нужно было сложить треугольником, а чтобы засмолить – переворачивать («перекладывать») при этом на три раза, тогда дерево будет крепнуть». Бревна перед началом строительства должны были лежать около трех лет. Местные старожилы поясняют: «Срубили сруб, крышу поставили, накрыли ее и на два года забыли про этот сруб. Пока он не устоится, весь не усохнет, до тех пор никаких работ внутри не ведется». На постройку дома созывали помощь (местн. «помочь») в лице родственников или соседей. Родители строили дома своим сыновьям: «Если в семье четверо сыновей, то родители строили дом сначала для стар- шего сына, затем для двух средних, а младший сын со своей женой оставался в доме родителей, чтобы за ними присматривать. Этот дом был на две половины».
На основание дома укладывали камень-плитняк или устанавливали по его периметру стойки (местн. «стулья», «чурки»), изготовленные из лиственницы, на которые «улаживали» окладной венец, а затем все остальные. В нижнем бревне делали желоб, куда укладывали мох, который брали с болот. Мох заворачивали в кудель (вычесанную коноплю), чтобы тот не раскрошился. Между бревен стен также прокладывали мох утепления.
Оконные наличники хозяева делали, как правило, самостоятельно из сосны (кедра), рамы были двойные. Когда бывали сильные морозы и промерзали окна, между рам также укладывали мох.
Пол в домах часто был двухслойным. Сначала из полубревен делали «черновой» нижний пол, а затем сверху укладывали распиленные плахи толщиной по 6–7 см – «чистый» пол. Стены в домах, по рассказам местных жителей, штукатурили: «Лили в глину воду, добавляли конский навоз, затем босые женщины, бегая по кругу с песнями, дружно месили глину на специально отведенной площадке. Этой глиной обмазывали стены». Всегда для тепла в доме делали завалинки: «Приходило бабье лето к началу октября, бабы стирали, а мужики завалинки делали – копали землю и присыпали ею снаружи дом». О старых домах местные старожилы говорят: «Если дом старый разобрать – гвоздей не обнаружишь, а между бревен ни одной щелочки нет. Если дом хорошо просушен – долго простоит. Всякий старый дом – ровный».
Наряду с домом для всей семьи в усадьбе могли ставить отдельные «избушки» для старших членов семьи – стариков. Кроме срубных домов строили «топтанухи» или «саманухи» (при постройке такого дома говорили «самануху стоптали»), глинобитные дома бедняков, для стен которых глину, перемешанную с конским навозом, топтали босыми ногами. Часто к таким работам привлекали детей. Саманухи сохранялись в селе до 1960-х гг.
Наряду с постоянными жилищами строили временные («времянки») и сезонные жилища (местн. «ка/о/рдоны») – срубные избушки лесников.
Печи в домах были глинобитными, «их делали в опалубку». Раньше специально толкли стекло, а затем вбивали его в глину, «чтобы печь была горячее» («в топку»). Печь затапливали и обжигали. Старожилы говорят: «Первый дымок запустил – все идут на магарыч», т.е. когда печь первый раз затопили, то нужно было отпраздновать это событие. Рядом с печью в избе устраивались полати, раньше это было место стариков, место же молодых было в горнице. Считалось, что если хозяева не угодили печнику, т.е. не помогали ему в работе, ничем не отблагодарили, он печь разбирать не будет, но сделает небольшую нишу («нишку») и положит в нее яйцо. Как только хозяева печь затопят, дом наполнится крайне неприятным запахом, «и ведь никто кроме печника этой ниш-ки не знает, а в доме жить нельзя. В кирпичные дома подкладывали бутылку, и стены начинали гудеть, хоть весь дом разбирай, а кроме мастера никто не знал в чем причина». У бедных бань не было, а хозяева ставили в доме большие печи, в которых они обычно мылись. Рядом с русской печью в сильные морозы ставили железную печь с трубой, для которой в русской печи было специальное отверстие.
На новоселье («влазины») новоселам было принято дарить подарки, которые могли пригодиться в хозяйстве: «Несли скалки, ложки, маслобойку, ступку. Все, что было необходимо, пока свое имущество новые хозяева не нажили, но никогда не дарили платки, простыни».
В поселениях до раскулачивания было много домов зажиточных хозяев, но внешне они мало отличались от бедных. Богатство дома раньше определялось так: «Там, где богатая семья – там богатый хлев, богатые погреба». В с. Лугавском все дома были одноэтажные, однако в 1870 г. был построен единственный двухэтажный дом на высоком подклете, который принадлежал офицеру И.И. Лыткину. В домах делали глубокие подполья, где часто держали пчел. Местные жители рассказывают: «Под домом была бревенчатая неотапливаемая стайка (местн. «ом/в/шан-ник») для пчел. Строить было негде, да и зимы холодные, поэтому держали пчел в подполье». В бедных домах лари с пшеницей стояли в сенях домов, и только у зажиточных людей были собственные амбары.
Дома второй половины XIX в. сохранились, но претерпели изменения: имеют пластиковые окна, обшиты сайдингом, перепланированы. В избах не сохранились русские печи, но часто встречаются печи из кирпича.
Новые материалы показали, что многоаспект-ность роли жилища в культуре жизнеобеспечения русских Хакасско-Минусинской котловины включает как материальную, так и мировоззренческую составляющую, которая преимущественно проявляется в традициях возведения и обживания дома.
Список литературы Жилище в культуре жизнеобеспечения русских Хакасско-Минусинской котловины: новые материалы
- Майничева А.Ю. Программы этнографического обследования недвижимых объектов культурного наследия//Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2009 г.: Археология, этнография, устная история. -Барнаул, 2009. -С. 130-133.
- Майничева А.Ю. Методические основы этнографических исследований объектов деревянного зодчества//Баландинские чтения. -Новосибирск, 2013. -№ 1. -С. 257-263.
- Майничева А.Ю., Глухих Е.И., Рыговский Д. С. Полевые исследования жилищного комплекса как одной из частей культуры жизнеобеспечения русских старожилов Хакасско-Минусинской котловины//Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае: мат-лы Х Междунар. науч.-практ. конф. -Барнаул, 2015. -С. 131-134
- Mainicheva A.Ju. Programmy etnograficheskogo obsledovanija nedvizhimyh ob”ektov kul’turnogo nasledija//Polevye issledovanija v Verhnem Priob’e i na Altae. 2009 g.: Arheologija, etnografija, ustnaja istorija. Barnaul, 2009. Pp. 130-133. (In Russ.)
- Mainicheva A.Ju. Metodicheskie osnovy etnograficheskih issledovanij ob”ektov derevjannogo zodchestva//Balandinskie chtenija. Novosibirsk, 2013. No. 1. Pp. 257-263. (In Russ.)
- Mainicheva A.Ju., Gluhih E.I., Rygovskij D.S. Polevye issledovanija zhilishhnogo kompleksa kak odnogo iz chastej kul’tury zhizneobespechenija russkih starozhilov Hakassko-Minusinskoj kotloviny//Polevye issledovanija v Priirtysh’e, Verhnem Priob’e i na Altae: mat-ly X Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Barnaul, 2015. Pp. 13-134. (In Russ.)