Жилищные аспекты политики рождаемости: опыт Китая
Автор: Русанов А.В., Ван Е.
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Демографическое развитие зарубежных стран
Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.
Бесплатный доступ
Спецификой Китая является использование жилищных инструментов для реализации демографической политики, ускорение урбанизации как базы дальнейшего экономического роста на основе постиндустриальной модернизации и инноваций. Отмена в 2016 г. обязательной однодетности, просуществовавшей более 30 лет, не привела к ожидаемому росту рождаемости, причём чаще всего отказ от второго ребёнка семьи объясняли финансовыми и жилищными проблемами. Исключительная роль сектора жилой недвижимости в экономическом развитии Китая способствовала жилищному буму, репродуктивные последствия которого обусловлены жилищным статусом разных групп населения (собственники и арендаторы коммерческого и социального жилья), институциональной спецификой (система регистрации «хукоу», налоги) и социально-демографической дифференциацией регионов. Хотя рост цен на жильё повышает как доходы собственников, так и расходы арендаторов, рождаемость везде остается низкой. Поскольку в условиях исполнительной автономии местного самоуправления меры общенациональной жилищной политики реализуются на уровне провинций, региональные и муниципальные органы власти самостоятельно выбирают наиболее эффективные меры для стимулирования рождаемости. Разнообразие жилищного сектора, сочетающего черты современного рынка и традиции национального планового хозяйства, позволяет связать требования к потребителям социального жилья с числом рожденных детей и репродуктивными перспективами семьи, приобретать «текучему» населению вторые дома как временное жильё детям-студентам, а при принятии решения о рождении ребёнка учитывать качество учебных заведений в школьном округе. Особый интерес представляет опыт Китая по эволюции пронаталистских мер жилищной политики на этапах отказа от однодетности, разрешения двухдетности и стимулирования трёхдетности с 2021 г. в регионах с разным уровнем рождаемости.
Китай, жильё, приватизация, аренда, вторые дома, демографическая политика, рождаемость
Короткий адрес: https://sciup.org/143184529
IDR: 143184529 | DOI: 10.24412/1561-7785-2025-1-76-88
Текст научной статьи Жилищные аспекты политики рождаемости: опыт Китая
В последние десятилетия общественное развитие Китая / КНР показывает примеры эффективного использования различных социально-экономических мер, направленных на решение национальных демографических проблем. Одной из наиболее острых из них является рождаемость, уровень которой должен отвечать требованиям и возможностям народнохозяйственного развития. Это означает корректировку регулирующих мер в соответствии с изменениями экономической ситуации, результатом которой стал диаметральный разворот демографической политики от жёсткой однодетности в 1981 г. до разрешения двух-детности в 2016 г. и стимулирования многодетности в 2021 году. Зависимость рождаемости от различных факторов позволяет составить комплекс мер регулирования, где важное место занимает обеспечение жильём, ставшее после либерализации жилищного рынка одним из заметных компонентов сектора недвижимости, создавшего более 6% ВВП Китая в 2022 году1. Значимость «квартирного вопроса» для семьи подтверждает текущая структура потребительских расходов, в которых «Жильё» занимает второе место (24%) после «Продуктов питания, табака и алкоголя» (30,5%)2.
Реформа жилищной сферы началась в 1988 г.: период обеспечения доступным жильём (1988–2002 гг.) предполагал «применить различные подходы жилищной политики к семьям с разными доходами: семьи с низкими доходами могут арендовать общественное жильё, предоставленное государством или кооперацией. Семьи со средними доходами могут покупать доступное жильё, а с высокими доходами могут покупать или арендовать коммерческое жильё по рыночной цене», «регулировать структуру жилищных инвестиций, сосредоточив их на развитии доступного жилья, ускорить решения жилищных проблем для малообеспеченных жителей» [1]. Такие жилищные принципы соответствовали абсолютному доминированию однодетных семей. Постепенное ослабление антинатальности входило в задачи построения в 2002–2012 гг. среднезажиточного общества «сяокан» (преобладание среднего класса), в котором доходов хватало бы и на содержание собственных детей, и на помощь престарелым неработающим родителям. Региональная дифференциация уровня жизни и постепенное расширение условий для разрешения второго ребенка потребовали соответствующих изменений мер политики рождаемости, чему способствовало, кроме прочего, многообразие жилищного сектора китайской экономики, содержащего различные типы собственного или арендуемого жилья.
В статье рассмотрен опыт Китая по использованию основных мер жилищной политики для регулирования рождаемости на разных этапах национальной демографической политики с учетом институциональной специфики, а также особенностей регионов и некоторых категорий населения. Период исследования охватывает 1980–2023 гг. — от начала политики обязательной однодетности до введения первых мер политики стимулирования многодетности. Методы основаны на качественном анализе данных вторичной информации, включающей нормативные документы по вопросам социально-экономической, демографической и жилищной политики, научные публикации и научно-популярную публицистику, данные печатных и электронных средств массовой информации, а также официальной общедоступной статистики КНР.
Обзор литературы
После институционального оформления регулирования рождаемости как основы демографической политики и включения статьи о планировании семьи в Конституцию КНР 1982 г., жилищная политика отражала возможности по достижению текущих це- лей. В ходе многочисленных исследований было выявлено, что число рождений в китайских семьях во многом зависит от наличия жилья, которое всегда регулировалось институционально, прежде всего через систему регистрации домохозяйств «хукоу» (постоянное домохозяйство, привязанное к конкретному месту жительства — аналог российской «регистрации по постоянному месту жительства»). Экономическое развитие КНР с начала 1980-х гг. связано с индустриализацией и урбанизацией, до настоящего времени заметно влияющих на уровень рождаемости через специфическое репродуктивное поведение разных категорий населения и привлекающих внимание к его социально-экономическим детерминантам. В этой связи установлены динамические причинно-следственные связи между ситуацией с жильём и репродуктивными намерениями населения при ограниченной социальной поддержке материнства, особенно актуальные в сравнении с высокоразвитыми странами, создавшими хорошо отлаженную систему семейных пособий и преференций [2–4]. В частности, выявлено влияние на рождаемость аренды жилья, приобретения жилья в собственность [5], которые становятся «компонентами мечты» растущего китайского среднего класса [3]. Некоторые эмпирические исследования доказали, что шок цен на жильё тесно связан со снижением рождаемости, в том числе через сокращение первых браков, а высокие жилищные расходы домохозяйств вынуждают отказаться от рождения детей [6; 7].
С учётом специфики регионов Китая показано, как стоимость жилья влияет на репродуктивные решения разных категорий населения, например, квалифицированных специалистов, для привлечения которых городские власти могут предоставлять доступное жильё [8]. Исследование в провинциях Центрального Китая выявило опосредованное влияние жилищной политики на решения в пользу рождения вторых и третьих детей через расходы на жильё [9; 10], а изучение городской образовательной политики подчеркнуло жилищные компоненты социально-экономических предпо- сылок, способствовавших эволюции демографического регулирования от антината-лизма до пронатализма [11; 12]. Исследования, проведённые после отказа от политики однодетности, показали, что наличие у родителей жилья, передаваемого по наследству детям, играет существенную роль и в жилищных стратегиях, и в репродуктивных намерениях молодёжи [13–15].
Изучение жилищных аспектов политики рождаемости показало, что уже начиная с периода обязательной однодетности, городское жильё в Китае было эффективным инструментом регулирования индивидуального числа рождений, учитывающим как общие тенденции пространственного демографического развития, так и национальные особенности страны. В частности, одной из особенностей китайской урбанизации стало появление населения, прибывающего в города в поисках работы после сельскохозяйственных реформ, названного в англоязычных публикациях «плавающим» (кочующим, блуждающим)3; наиболее близким по смыслу переводом на русский язык может быть «временное» население 4. В отличие от «постоянных» мигрантов, выбирающих город для постоянного места жительства, эти «временные» мигранты не имеют «хукоу» там, где проживают и трудятся, но около 80% из их почти 300-миллионного контингента находится в возрасте максимальной физиологической репродуктивности и потому заметно влияет на уровень рождаемости в месте их проживания. Это привлекает всё больше внимания к условиям, при которых «временное» население готово завести детей, поскольку отсутствие равных с местными жителями социальных прав объективно обусловливает их предпочтения на собственное городское жильё. Отдельные исследования показали, что арендаторы жилья и собственники жилья, уже имеющие ребёнка, чаще ориентированы на двухдетность, чем бездетные собственники жилья [16–18].
В последние годы актуализировался анализ взаимосвязи растущего жилищного неравенства и снижения рождаемости в китайских городах. Выявлено, что одновременное существование беспрецедентной приватизации жилья и спонсируемых государством жилищных программ создало гибридный режим домовладения с рыночными и нерыночными характеристиками, образовав системные связи между особенностями домовладения и совокупной рождаемостью городских семей, учитывающие характеристики семьи, местное экономическое развитие, цены и качество жилья. У купивших жильё на рынке недвижимости рождаемость выше, чем у тех, кого спонсировало государство, но ниже, чем у арендаторов жилья, что подтверждает действие специфических институциональных барьеров, в частности, системы «хукоу» [19].
После включения в жилищную политику рыночных инструментов жильё приобрело инвестиционные функции, вклад которых в регулирование рождаемости отмечался, в частности, в работах, посвященных «вторым домам» [20]. Само появление такой категории жилья, характерной для высокоурбанизированных стран, свидетельствует о быстрых темпах китайской урбанизации и социальных результатах экономических преобразований. Исследования в рамках проекта UrbaChina (2011–2015 гг.) отмечали, что функциональная специфика вторых домов в Китае, как следствия перехода от социалистической экономики к рыночной, усилила жилищное неравенство в городах, поскольку многие владельцы второго жилья сдавали основное жильё в аренду, в том числе «текучему» населению 5. В настоящее время рынок вторых домов продолжает развиваться, причем целевая группа потенциальных инвесторов расширяется за счет иностранных потребителей6, никак не отражаясь на репродуктивных намерениях китай- ского населения. В контексте разработки современной пронаталистской демографической политики внимание уделяется взаимосвязи жилищного кредитования и принятию решений о рождении детей [21].
Жилищная политика в период ограничения рождаемости
В начале политики обязательной одно-детности жильё выделялось государством через рабочие подразделения с учётом трудового стажа, общественных заслуг и потребностей [24], а зависимость от размера семьи делало его автоматическим регулятором числа детей у супругов. При начале макроэкономических реформ в 1978 г. средний показатель жилой площади на душу населения составлял лишь 3,8 м2, а в городе — 6,7 м2 [25]. В 1980-х гг. собственным жильём обладали менее 20% горожан [1]. В 1998 г. система государственного распределения жилья прекратила существование, и главной возможностью его получения в городе стала покупка на рынке недвижимости, в том числе с помощью ипотечного кредита. Таким образом, коммерческое (приватизированное или частное) жильё получило инвестиционные функции, но на начальном этапе жилищной реформы было доступно лишь высокодоходным семьям, которые и при политике однодетности могли позволить себе второго ребенка, оплатив штраф за его рождение в сумме нескольких годовых заработных плат. Поскольку именно коммерческое жильё рассматривалось как доминирующее направление улучшения жилищных условий горожан, уже в 2005 г. Национальное статистическое бюро (НСБ) Китая зафиксировало почти четверть городских жителей, проживавших в приватизированном жилье, а 2 / 3 — в различных типах частного жилья [1]. Остальные обеспечивались социальным или доступным жильём, объединившим множество видов аренды или купли-продажи недвижности с государственными преференциями [25]. К завершению политики однодетности в результате приватизации собственниками жилья стали более 80% граждан [26].
Учитывая стратегические макроэкономические цели, включающие рост благосостояния населения до уровня, способствующего пронаталистскому репродуктивному выбору, жилищная политика была ориентирована либо на решение жилищных проблем низкодоходных групп населения, либо на ускорение развития рынка жилья для высокодоходных. Хозяйственные возможности государства не позволяли увеличить предложение жилья, поэтому центральные и местные власти получили право регулировать спрос через ставки по ипотечным кредитам, налоги и локальные «хукоу», определяющие статус конкретного человека в регистрационной системе, ограничивая предложение земли под жилую застройку за счёт ужесточения правил и повышения цен на землю. Концепция «Жильё для проживания, а не для спекуляции» помогла обеспечить доступным жильём семьи с низким доходом, но почти не учитывала интересов общества «сяокан». Рост цен на недвижимость заметно опережал рост доходов — даже среднедоходным семьям не хватало средств на коммерческое жильё, и отсутствие прав на покупку или аренду доступного социального жилья вынуждало ограничивать число детей. Это негативно отразилось на пронаталистских намерениях молодёжи: негласные, но широко распространённые требования к мужчинам иметь собственную квартиру до вступления в брак откладывали создание семей на долгое время, а дорогая ипотека снижала семейный доход до уровня, недостаточного для содержания даже единственного ребёнка.
В рамках смягчения негативных тенденций провинции могли корректировать общенациональные меры жилищной политики. Например, в городе Нанкин (столица провинции Цзянсу) социальное жильё впервые предложили в 2001 г. низкодоходным семьям с местным «хукоу», в 2011 г. распространили право на него на выпускников местных вузов. В последующие годы спектр типов такого жилья расширялся, увеличивая разнообразие функций и целевых групп получателей.
Одним из факторов, влияющих на индивидуальный жилищный выбор семей с детьми в Китае, является наличие с середины 1990-х гг. школьных округов, то есть территорий, дети с которых принимаются в ближайшие к дому государственные общеобразовательные школы по принципу «зачисление рядом»7. С 2006 г. обязательное школьное образование тесно увязывается с правами собственности на жильё и «хукоу» 8, что заметно повышает цены на жилую недвижимость в округах с престижными школами. Хотя перечень таких школ меняется в соответствии с социально-экономической ситуацией, сокращение детского контингента с первых лет политики однодетности привело к постепенному уменьшению числа государственных учебных заведений, лучшие из которых находятся в крупных городах. НСБ Китая делит 70 крупных и средних городов на три уровня — от четырёх городов 1-го уровня (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь) до 35 городов 3-го уровня. В большинстве городов 1-го уровня семьи, чьи «хукоу» и фактическое место жительства находятся по одному адресу в школьном округе, обычно имеют приоритет при приёме детей в местные государственные школы, а в некоторых популярных школьных округах требуется проживание семьи по официальному адресу («хукоу») в течение нескольких лет9.
Иногда выполнить такое требование помогали «вторые дома» — в 2002 г. около 6,6% городских домохозяйств имели два или более жилых объекта, в 2007 г. — 15%, причём владение вторым домом дополнялось арендой основного жилья в государственном секторе [22]. В мегаполисах вторых домов было ещё больше — например, около 23,7% в Пекине, поскольку именно здесь они «выделялись по месту работы» (26,6%), приобретались в качестве дополнительного жилья рядом с работой (21,9%) либо из-за неудовлетворительных условий проживания в первом месте жительства (20,7%), доставались по наследству (14,2%), за целевые жилищные субсидии от предприятий (9,5%) или инвестиции (7,1%) [27]. «Вторые дома» были почти у трети сельских мигрантов, арендовавших городское жильё, но сохранявших дома и земельные участки в родной провинции как страховку на случай неудачной интеграции в городскую жизнь, либо снимавших его для детей-студентов.
Поскольку налоговая система не предполагала высоких налогов на содержание имущества, некоторые приобретали несколько жилых объектов в качестве выгодных инвестиций из-за роста цен на недвижимость. На фоне уникальных городских «вторых домов» в Китае активизировалось развитие «классических» загородных вторых домов, функционально схожих с теми, которые были ещё у китайской знати [28] — аналог российских «дач». Рост доходов населения, изменения образа жизни, растущее социальное расслоение, оплачиваемый досуг способствовали появлению вторичного жилья для отдыха и связанных с ним инвестиций, особенно в курортных местностях, например, в городах Хайкоу (остров Хайнань), Саньян (остров Фошань) [29–30], а также в столичных центрах — в Пекине около 13% «вторых домов» использовались для отдыха и туризма [27].
До 2000 г. жилищные меры в целом способствовали ограничению рождаемости — во всех регионах Китая сохранялась устойчивая тенденция снижения суммарного коэффициента рождаемости (СКР), хотя менялось количество территорий, где этот показатель был ниже среднего по стране. В 1990 г. на Севере и Северо-Востоке КНР, в восточных провинциях Чжэцзян и Шаньдун, юго-западной Сычуани, в Пекине, Тяньцзине и Шанхае СКР был меньше среднекитайского 2,295, но нигде СКР не снижался ниже 1. К 2010 г. средний СКР уменьшился до 1,181, но несколько вырос в некоторых провинциях: на 0,039 в Пекине;
0,101 в Тяньцзине; 0,062 в Шанхае и 0,057 в Гуандуне10.
Жилищная политика в период стимулирования рождаемости
К началу политики «универсальной двух-детности» в 2016 г. жилищные тенденции отражали потребности разных групп населения и возможности государства по их удовлетворению, а после неэффективности первых разрешительных мер политики универсальной двухдетности, наиболее демографически неблагоприятные провинции в 2018 г. разработали планы налоговой, образовательной, социальной и жилищной политики для семей с двумя детьми. В целом по стране к 2019 г. 38 млн человек получили социальное жильё, 22 млн человек — пособие на аренду жилья11, а в наиболее значимых городах на каждого жителя приходилось около 1,5 объекта недвижимости, что подтверждает усиление их инвестиционной функции. Коммерциализация жилья способствовала существенному улучшению условий жизни: в 2020 г. в среднем на человека в доме приходилось примерно 1,07 комнаты, и более чем 94% жилых помещений по всей стране имели туалет и кухню (в ОЭСР это 1,7 и 97%)12, однако, по мнению экспертов, именно высокие цены на жильё в крупных городах не позволяют парам заводить детей, поскольку одежда, продукты питания, услуги транспорта и связи здесь ненамного дороже, чем в небольших городах — 41,6% респондентов назвали недостаток доступного жилья причиной, из-за которой семьи ограничиваются одним ребёнком13.
При этом цены на жильё заметно дифференцируются — в городах 1-го уровня цены на новое и существующее жильё выросли на 2,5% и 0,6% соответственно, в городах 2-го и 3-го уровня цены снизились, причём в городах 3-го уровня особенно заметно. Предложение жилья в этих городах превышало спрос, что сформировало «жилищный пузырь»: в городах 3-го уровня сосредоточено более 78% общего жилищного фонда Китая и 66% городского населения Китая14. Это жильё относительно доступно: среднее соотношение цен к доходам в городах 2-го и 3-го уровней составило 11,6 и 10,1 в 2020 г. по сравнению с 24,4 в городах 1-го уровня. Ввод нового жилья в 13 городах опередил рост спроса по меньшей мере на 30%, и ещё в 11 городах — на 10%, в результате чего в городах 3-го уровня цены на недвижимость упали почти на 20%, в городах 1-го и 2-го уровней цены незначительно вырос-ли15. Такая ситуация способствовала тому, что Китай стал страной с одним из самых высоких в мире показателем владения несколькими / вторыми домами (>20%) [26].
Неоднозначная динамика потребовала углубления диверсификации жилищной политики, поскольку, по экспертным расчётам, увеличение стоимости жилья влияет на репродуктивный выбор собственников: рост затрат на жильё на 100 тыс. юаней (около 43% от среднего уровня благосостояния) на 14% снижает вероятность того, что его владелицы-женщины примут решение в пользу рождения ребёнка; схожим анти-натальным эффектом обладают слаборазвитые кредитные рынки [23].
Уже первые отклики на стимулирующие пронаталистские меры показали, что тенденции рождаемости, начавшие формироваться в конце периода обязательной одно-детности, укрепляются (рис. 1). Хотя число регионов с СКР ниже 1, осталось таким же, как в 2010 г., значение его повысилось, особенно в провинциях и городах с самой низкой рождаемостью: на 0,175 в Ляонине; 0,161 в Пекине; 0,129 в Шаньси; 0,119 в Гирине; 0,118 во Внутренней Монголии при общекитайском СКР 1,3, а в юго-западном Гуйчжоу преодолел длившееся до 2010 г. снижение и вырос до 2,119; только в Хэбэе, Хубэе, Аньхое, Хунане и северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе СКР снизился16.
Общий коэффициент рождаемости (ОКР) на национальном уровне тоже существенно не увеличивался, а в 2022 г. естественный прирост сменился естественной убылью населения (–0,6‰), хотя в сентябре того же года Национальная комиссия здравоохранения Китая предложила новые рекомендации по налоговой, жилищной, трудовой и образовательной политике, направленные на улучшение условий жизни семей с детьми. За период реализации мер стимулирования рождаемости достаточно чётко выделились провинции с самым высоким (Тибет, Цинхай, Хайнань) и самым низким (провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Гирин, города Шанхай и Тяньцзин) ОКР, что потребовало учёта местной специфики.
В провинции Хэйлунцзян (граничащей с Дальним Востоком России) после распространения в 2016 г. на всю страну разрешённой двухдетности супруги из приграничных районов получили право иметь ещё одного ребёнка17. Однако к 2018 г. региональный ОКР составил 5,98‰, к 2022 г. снизился до 3,34‰, а к 2023 г. эта провинция осталась единственной, где ОКР был 2,92‰ — вдвое ниже среднего по стране18. Для улучшения
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7

ж
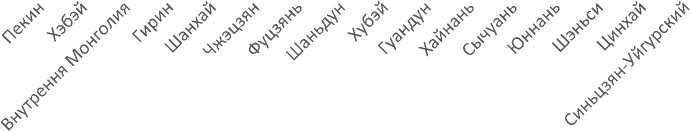
• 2010 ■ • ■ 2020
Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости по провинциям и городам Китая за 2010–2020 годы
Fig. 1. Dynamics of the Total Fertility Rate by provinces and cities of China in 2010–2020 Источник: составлено авторами по данным официальной статистики КНР.
ситуации была издана «Программа реализации оптимизированной политики в области рождаемости в городе Харбин для содействия долгосрочному сбалансированному развитию населения», содержавшая, кроме прочего, меры по обеспечению жильём. Семьи с детьми получали льготы по эксплуатации государственного арендного жилья и право на дифференцированное ипотечное кредитование: для родителей двух и более детей период обязательных взносов сокращался до полугода, после рождения второго и третьего ребёнка семьям предлагались субсидии 15 тыс. и 20 тыс. юаней для покупки нового жилья в определённых районах города, а также приоритетное распределение муниципального жилья19.
В провинции Ляонин после отказа от обязательной однодетности тенденция снижения рождаемости продолжилась: в 2018 г. ОКР составил 6,39‰, в 2023 г. — 4,06‰, заняв четвёртое место с конца в стране. Региональные меры жилищной политики были направлены на поддержку многодетных семей при покупке собственного жилья: для семей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет предлагался кредит с увеличенным лимитом в системе накопительного жилищного обеспечения на покупку собственного жилья20, а в одном из городов провинции такие семьи получили право приобрести ещё одно новое жильё, причём в районах ограниченной застройки, даже при наличии уже двух жилых помещений21.
В относительно более демографически благополучных регионах, где ОКР выше среднего по стране, рождаемость тоже сокращалась, но реализация мер продолжилась: с 2023 г. в городе Цзюцюань (провинция Ганьсу) семьям с двумя детьми предоставляется единовременная жилищная субсидия в 50 тыс. юаней, с тремя — 100 тыс. юаней, а в провинции Цзянси (ОКР 13,43‰ в 2018 г., 6,52‰ в 2023 г.) можно выбирать между арендой государственного жилья и денежной субсидией на оплату жилья22.
Таким образом, институциональные особенности Китая, в частности, система «ху-коу» и исполнительная автономия местного самоуправления, поэтапно переводят реализацию мер общенациональной жилищной политики на уровень провинций, где региональные и муниципальные органы власти имеют право самостоятельно выбирать пути решения поставленных задач, в том числе в вопросах регулирования рождаемости. Возможности для этого создаются разнообразием жилищного сектора китайской экономики, сочетающего в себе как черты современного рынка, так и сохранившиеся традиции национального планового хозяйства. Например, общие для всех стран характеристики социального жилья, основанные на его полном или частичном некоммерческим статусе и целевых группах потребителей, в Китае связываются с числом рождённых детей и репродуктивными перспективами семьи, популярные в высокоурбанизированных странах «вторые дома» могут приобретаться «текучим» населением как жильё для взрослеющих детей, а качество учебных заведений в школьном округе влияет на намерение завести ребёнка.
* * *
Современная политика народонаселения Китая носит многосторонний характер, охватывающий экономические, политические и социальные аспекты. Сегодня это позволяет учесть как стратегию макроэкономического развития, так и особенности на микроуровне, сформировавшиеся в условиях длительной обязательной од-нодетности. С этой точки зрения жилищные проблемы остаются одними из основных, влияющих на индивидуальный прона-талистский выбор на фоне многообразных особенностей населения в рамках единого национального комплекса, а политика, направленная на повышение доступности жилья и поддержку молодых семей, имеет решающее значение для достижения китайских целей в отношении многодетности.
Среди факторов, определяющих уровень рождаемости, важное значение имеют как общие для всех индустриальных и постиндустриальных сообществ, так и специфически китайские, использование которых для регулирования процессов естественного движения населения и миграции возможно в других странах. Для государств с внутренней региональной социальноэкономической дифференциацией и неоднородными демографическими традициями важен опыт выполнения масштабных задач на местном уровне в рамках централизованного административного управления; актуален пример регулирования доступности жилья в условиях роста цен на недвижимость, усиливающегося жилищного неравенства и социально уязвимых групп населения, а также использования дополнительного жилья как фактора принятия позитивных репродуктивных решений, актуальных в контексте меняющихся демографических планов Китая.


