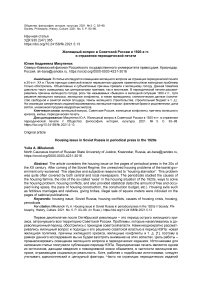Жилищный вопрос в советской России в 1920-е гг. в отражении периодической печати
Автор: Микуленок Ю.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется освещение жилищного вопроса на страницах периодической печати в 20-е гг. XX в. После прихода советской власти нерешенные царским правительством жилищные проблемы только обострились. Объективные и субъективные причины привели к жилищному голоду. Данная тематика довольно часто освещалась как центральными газетами, так и местными. В периодической печати рассматривались причины жилищного голода, роль так называемых «бывших» в жилищной ситуации 1920-х гг., пути решения жилищного вопроса, жилищные конфликты, а также приводились статистические данные (количество свободной и занятой жилой площади, темпы жилищного строительства, строительный бюджет и т. д.). На страницах сатирических изданий высмеивались жилищные пороки: фиктивные браки и родственники, дача взяток, незаконная продажа квадратных метров.
Жилищный вопрос, советская Россия, жилищные конфликты, причины жилищного кризиса, жилье, периодическая печать
Короткий адрес: https://sciup.org/149134967
IDR: 149134967 | УДК: 930.2(47):365 | DOI: 10.24158/fik.2021.5.13
Текст научной статьи Жилищный вопрос в советской России в 1920-е гг. в отражении периодической печати
Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия, Краснодар, Россия, ,
North Caucasus branch of Russian State University of Justice, Krasnodar, Russia, ,
Первое десятилетие после Октябрьской революции – это период острого жилищного кризиса, затронувшего всю территорию Советской России. Проблемы, которые накапливались в дореволюционный период, обострились с приходом советской власти. Нами неоднократно рассматривались жилищный вопрос и подходы к его решению советской властью в период НЭПа: новая жилищная политика, причины жилищного кризиса, жилищные конфликты и т. д. [1], поэтому в рамках данного исследования мы не будем заострять внимание на этих аспектах. Цель работы – проанализировать освещение жилищного вопроса в периодических изданиях. Источниками для написания статьи послужили публикации периода НЭПа. Периодическая печать является одним из источников, дающим сведения о повседневной жизни обывателя, в частности жилищном вопросе, отражающем социальную реальность. Хотя, работая с подобными источниками, следует учитывать идеологический и цензурный факторы. Часто на страницах периодических изданий поднимались проблемы, которые волновали советских граждан, что находит подтверждение и в архивных документах: несправедливое, с точки зрения обывателя, распределение квадратных метров, злоупотребления «бывших людей» и председателей ЖАКТов, жилищные пороки. Методологическую основу исследования составили принципы историзма, объективизма и системности, а также методы сбора и анализа эмпирических данных.
НЭП – сложный период трансформации и становления советского общества. Это время динамичных и масштабных социальных изменений и одновременно этап обострения ряда социально-экономических проблем, в том числе жилищных.
Жилищный вопрос становится одной из главных тем советской периодики 1920-х гг., которая не только знакомила обывателя с новым жилищным законодательством (Инструкцией НКВД по применению постановления ВЦИК № 476 от 15 октября 1924 г., Инструкцией СНК РСФСР о праве пользования дополнительной жилой площадью от 29 сентября 1924 г., Инструкцией об установлении и порядке исчисления квартирной платы в г. Москве с 1 октября 1926 г.; Постановлением ВЦИК и СНК об условиях и порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений от 14 июня 1926 г.), но и старалась рассмотреть его «вширь и глубь». Анализируя материалы, можно выделить несколько проблемных блоков, освещаемых в периодической печати: распределение жилой площади, жилищные пороки, злоупотребления и конфликты.
На страницах периодики («Жилищное товарищество», «Красное знамя», «Известия ВЦИК», «Московская жизнь», «Рабочая Москва» и др.) советские теоретики и партийные лидеры неоднократно поднимали вопрос о причинах жилищного кризиса и искали пути его решения. Основными причинами жилищного голода в 1920-е гг. были особенности расширения городов, возрастание урбанизации, высокий прирост населения, последствия Гражданской войны, полное прекращение жилищного строительства и капитального восстановления домовладений с 1914 г., новая жилищная политика советской власти, превращение жилых зданий в нежилые, недостаточное финансирование рассматриваемой сферы и незаинтересованность жильцов в поддержании занимаемых ими помещений вследствие широкого применения практики выселения и «ущемления» [2, с. 3].
В 1920-х гг. начался стремительный процесс урбанизации, вызванный революционным разрушением крестьянской общины, усилившейся индустриализацией страны, коллективизацией сельского хозяйства и политикой раскулачивания. Массовая миграция сельских жителей в город в поисках работы и лучшей жизни, особенно заметно наблюдаемая среди молодежи, привела к перенаселению городов, которые были не готовы принять быстро увеличивающееся население. В начале XX в. в силу обозначенных причин жилая площадь в Советской России сократилась. Так, в 1918 г. в Москве насчитывалось 27 872 домовладения, а в 1921-м – 24 490, при этом 37 % из них были непригодными для жилья. Только 3 391 домовладение было вполне исправно, т. е. с действующими водопроводом, отоплением и канализацией. Часть зданий была разрушена в результате пожаров (в 1921 г. зарегистрировано 1 719 возгораний), часть – от неподдержания их своевременным ремонтом и разборки их на топливо [3, с. 3]. С переездом центральной власти в столицу эта площадь еще больше уменьшилась: значительная часть жилой площади, 128 000 м2, была выделена для госучреждений. Население Москвы не было удовлетворено даже минимальной «гробовой» нормой в 7 м2 на человека [4, с. 3]. В Ростове-на-Дону общая жилплощадь с 1914 по 1924 г. сократилась на 8 % [5].
В 1929 г. в Воронеже 308 человек, которые имели право на предоставление жилой площади в первую очередь, нуждались в квартирах, из них 100 работников областных и окружных учреждений, переброшенных сюда из других городов, и 114 демобилизованных. Остальные нуждались в квартирах ввиду того, что дома, где они жили, были признаны непригодными для проживания. Большинство нуждающихся ждали своей очереди 3–4 месяца, а некоторые – с июня 1928 г. Часть нуждающихся в квартирах, около 70 человек, жили в гостиницах, около 30–40 красноармейцев были размещены в общежитии ночлежного дома им. М. Горького. Остальные находились у знакомых, родственников, иногда целыми семьями ютились в проходных комнатах [6, с. 4].
Значительная часть населения проживала в коммунальных квартирах, муниципализированных домовладениях, общежитиях или бараках. Лишь партийная и научная элита могла позволить себе отдельные квартиры [7, с. 58]. В целом по стране в 1920-е гг. только 13,5 % обывателей имело жилую площадь, соответствующую санитарным нормам [8]. Чтобы удовлетворить жилищную нужду, только в Москве требовалось ежегодно затрачивать свыше 100 млн золотых рублей на жилищное строительство и 105 млн – на ремонт [9, с. 3]. Для того чтобы предохранить жилье от дальнейшего разрушения, по всей стране было необходимо затратить 200–250 млн золотых рублей [10, с. 40]. В переходный период строительства нового государства, которое еще не оправилось от последних двух революций, Гражданской войны, участия в Первой мировой войне, интервенции, возможность выделения таких сумм отсутствовала.
В периодических изданиях наряду с объективными причинами жилищного кризиса говорилось и о роли «бывших» в возрастании жилищного голода: «Тихо и неслышно, как-то бочком пробрался и уютно расположился в лучших жилищах Питера нэпман, а любая пролетарская семья, как и в старые времена, ютится в подвальных этажах» [11, с. 2]; «жилколлективы выживают рабочих, чтобы вселить нэпманов» [12, с. 1]; «жилищный кризис бьет более всего по рабочему люду, мыкающемуся по сырым, полутемным каморкам. Как только был объявлен НЭП, в г. Краснодаре начали, как грибы после дождя, вырастать различные “жилищные товарищества”… в них пробрались спекулятивные элементы» [13, с. 1]. Периодическая печать формировала определенную социальнополитическую конъюнктуру антагонизма, сформированную в рамках классового подхода: «бывшие» и пролетариат. Не имея возможности решить жилищный кризис в интересах трудящихся, советская власть пыталась обвинить «бывших» в невозможности на данный момент решить жилищный вопрос. Этим власть, с одной стороны, оправдывала себя, с другой – внедряла в массы новую идеологию классового господства и необходимости борьбы с нэпманами.
После Октябрьской революции, стараясь разрешить жилищный вопрос, советская власть взяла курс на новую жилищную политику. В декабре 1917 г. были запрещены все сделки с недвижимостью, в августе 1918 г. – ликвидирована частная собственность на недвижимое имущество в городах, что давало местным властям право конфисковывать жилые здания. Однако в период НЭПа начинает возрождаться частная собственность на дома, которая, впрочем, также находилась под контролем городских властей [14, с. 118]. Анализ текстовых материалов периодической печати показал, что в условиях жилищного голода в 1920-е гг. процветали незаконные сделки с недвижимостью, которые стали бытовым явлением: «В Москве участились случаи торговли комнатами. Многие граждане продают комнаты в 4–5 кв. саж. за 800–1 000 р., не уведомляя об этом домоуправление» [15].
В нарсудах постоянно слушались дела о незаконных продажах и других махинациях с жильем. Так, некая гражданка, занимавшая квартиру из трех комнат с семьей, осенью 1922 г. впустила к себе жильцов, предоставив им одну из занимаемых комнат.
«– Когда я впустила их в комнату, – рассказывает истица, – они обещали отапливать всю квартиру. Как настала зима, они поставили железную печку только к себе и отапливали только свою комнату. И мне пришлось самой топить! Да к тому же мне тесно жить в двух комнатах.
– Так чего же вы их впустили?
– Они обещали весною выехать, но обманули, не выехали.
– Она продала мне комнату, – сообщает суду ответчик, – я ей 800 млн в сентябре прошлого года уплатил и никаких обязательств ни об отоплении, ни о выезде не давал» [16, с. 7].
Советская власть разработала систему пользования жилой площадью: введены дифференцированная норма распределения квадратных метров, правила вселения и пользования жилой площадью, наследования и т. д., на которые обыватель не обращал внимание, нарушая их.
Вскоре после принятия декрета «Об отмене прав частной собственности на недвижимость в городах» власть стала проводить политику «выселения» и «ущемления» [17, с. 13]. По всей стране началось выселение «бывших» и переселение в их квартиры партийной элиты и рабочих. При уплотнении гражданам давалось две недели, чтобы подыскать себе «сожителя» (соседа по комнате) [18, с. 18]. В случае, если в этот срок квартира не была уплотнена, жилищные отделы производили принудительное уплотнение. Данной мере подвергались все более или менее зажиточные слои – и средний класс, и интеллигенция, и «бывшие», хотя стоит заметить, что подобная политика не обошлась и без злоупотреблений. Проанализированные архивные документы центральных и региональных архивов позволили сделать вывод, что основная масса заявлений – это жалобы на незаконное уплотнение, выселение и злоупотребления (нередко пустующие комнаты доставались родственникам членов партийной номенклатуры или «бывшим»), что неоднократно освещалось в периодической печати.
Отчетливо понимая, что с рабочим классом им не ужиться, «бывшие» нашли выход из положения. В крупных городах стали процветать махинации с жильем: фиктивные браки, разводы, сдача угла или части комнаты внаем «родственникам» или «друзьям» [19, с. 59]. Данные практики высмеивались на страницах популярного журнала «Крокодил». В сатирической форме издание обнажало негативные и злободневные темы советской действительности. Практически в каждом номере за 1920-е гг. появлялись статьи, повествующие о жилищных пороках: фиктивных браках, незаконной продаже квартир, «самоуплотнении» и др. [20, с. 14]:
За комнатой я всюду Порхал дней сорок птахой. Но комнат нет здесь люду! И я послал за... свахой.
– Бездомен, точно лань, я! – Вздыхал и хныкал вместе. – Жени ж меня, Маланья,
Невеста в девять сажен, С парадною и с ванной! Возьми Агафью в жены: Не блещет красотою,
Да девка-то с балконом И с газовой плитою!
И эта не годится?
На комнатной невесте!
Так Таня будет ладной: С листричеством девица И с лестницей парадной! А Груня? Лучше треста! Женись на ней с резонтом: В три комнаты невеста, Но с маленьким ремонтом. Еще есть две. С почтеньем Хвалю пред всем народом: Девица - с отопленьем, Вдова - с водопроводом! Нет, братцы, не годится!
Позор тем бракам странным На комнате жениться И взять жену™ приданым!!!
- Что ж, можно! Есть Матрешка, -Ласкала сваха речью, -Невеста в три окошка И с кафельною печью! Не хуже и Палаша.
Хушь и прослыла дурой, Зато невеста наша С большою кубатурой! А не по нраву эта, Возьми тогда Лукерью: Девица в два паркета, К тому ж с отдельной дверью. Не хочешь? Ишь, как важен! Тогда венчайся с Анной:
В журнале за 1923 г. была помещена статья Свэна «Руководство по борьбе с уплотнением», кото-
рая ярко иллюстрирует жилищные махинации некоторых предприимчивых членов жилищных товариществ, помогающие избежать не только принудительного и нежелательного уплотнения, но сохранить «свою» жилую площадь независимо от установленных норм: «В один прекрасный день вас будоражит резкий звонок в парадном. <™> На лестнице вас ждет молодой человек и председатель правления.
- Из РУНИ, - виновато говорит последний.
Вы обрадованно лезете за бумажником и спрашиваете молодого человека:
- Я вам, кажется, должен?
Инспектор делает обиженное лицо, говорит что-то нехорошее, смутно напоминающее “сволочь” и, достав бумажку, с полчаса занимается арифметикой.
-
- 16 плюс 16 и еще раз 16, - деловито считает он, - итого у вас 150 лишних квадратных аршин.
-
- Что? - иронически улыбаетесь вы. - Мы и так как сельди в бочке набиты. Давайте проверим. Вот видите™ - показываете вы инспектору вашу столовую, - это кухня и в площадь засчитываться не может.
-
- Как кухня, - недоумевает молодой человек.
-
- А так, - ссылаетесь вы на маленькую печурку, - мы на ней готовим. А это передняя, тоже не засчитывается, - убеждаете вы инспектора, войдя в гостиную, - ведь вот, даже пальто висит.
Окончательная победа достается вам в спальне, когда, достав из-под кровати небольшой круглый сосуд, вы тычете его прямо в нос молодому человеку.
-
- А это что, не уборная? - возмущенно кричите вы. - Может, и ее засчитаете в жилую площадь?
Сконфуженный инспектор составляет акт о необходимости переселения вас в большую квартиру, но вы великодушно отказываетесь.
Через две недели заявляется новый инспектор.
-
- Я от МУНИ (Московское управление недвижимых имуществ - Ю.М. ), - угрюмо говорит он, - акт предыдущего инспектора не утвержден.
Новый инспектор производит новый обмер и находит двести лишних квадратов.
-
- Ну что ж, - спокойно подтверждаете вы. - А знает ли МУНИ, сколько здесь человек?
И вы начинаете пересчитывать изумленному инспектору всех давно умерших родственников вашей первой жены.
-
- Вера! - кричите вы в соседнюю комнату. - Ты не помнишь, кого мы еще прописали в прошлом году?
Председатель правления услужливо раскрывает домовую книгу. Четыре страницы заполнены исключительно жильцами вашей квартиры.
-
- Да, обремененного многочисленным семейством ответственного работника, - добиваете вы подавленного представителя МУНИ, - можно уплотнять, а рядом у Власова три человека в огромной комнате™
Смущенный инспектор отправляется к рабочему Власову, ютящемуся с семьей в полуподвальной каморке, и в ярости вселяет ему двух бездомных студентов» [21, с. 534].
Данный эпизод показывает психоэмоциональное состояние и менталитет обывателя: любыми средствами сохранить свое привилегированное положение, не чураясь при этом никаких методов. Не желая жить в одной комнате с незнакомыми людьми, потенциальные жертвы уплотнения усиленно искали себе квартирантов, с которыми им будет в эмоциональном и культурном плане комфортно вместе жить. Это явление получило название «самоуплотнение». В будущем такая практика послужила причиной частых конфликтов - расчетливые «родственники» не хотели съезжать с обжитой жилплощади.
Острота жилищного вопроса спровоцировала увеличение количества конфликтов, которые зачастую решались в судебном порядке. В периодической печати даже появилась специальная рубрика «По народным судам», где нередко освещались жилищные тяжбы. Как правило, конфликты возникали из-за жилой площади, повышения квартирной платы, мест общего пользования и психоэмоциональной несовместимости «бывших» и городских обывателей. Последние противоречия часто фигурировали в периодической печати и частных жалобах «во власть»: «Семья из 3 человек - муж, жена и взрослый сын - занимала две комнаты. Одна из них - площадью в 25 кв. арш., другая - 20 кв. арш. Стало быть, каждый обитатель этой квартиры занимал площадь ниже установленной нормы.
Но, несмотря на это, арендатор дома нашел возможность сдать одну из этих комнат на учет в счет 10 % нормы.
-
– Ничего, потеснитесь немного, – хладнокровно ответил он на законные протесты жильцов, – есть люди, которые еще теснее живут.
РУНИ выдал ордер на одну комнату рабочему, и последний вселился в квартиру.
Жильцы квартиры подали в Народный суд иск к арендатору дома за неправильную сдачу комнаты в счет 10 % нормы и к новому жильцу о выселении.
-
– Как же вы это сдаете на учет комнату, когда в этой квартире не только нет излишков площади, но она даже не достигает нормы? – спрашивает судья арендатора.
-
– А мне-то какое дело… Мое дело маленькое – сказано сдать комнату в счет 10 % нормы, я и сдал. Им хватит и одной комнаты.
-
– Но они имеют право на площадь обеих комнат.
-
– А мне-то сдавать комнату на учет надо было? Не из своей же квартиры сдавать. Это мой дом. И я теперь его арендую» [22, с. 6].
Поводом к конфликтам становились и злоупотребления членов правления ЖАКТов: «Председатель правл<ения> ОИКО гр. Иваницкий очень увлечен своим положением преда. Он, не считаясь с интересами жильцов дома по Вокзальной, 24, запирает калитку» [23, л. 6]; «Вышеуказанная гражданка без ведома ЖАКТа закрыла освободившуюся квартиру по Пролетарской, 15/2, занимаемую ранее членом ЖАКТа Дерим-Оглы, своим замком и самовольно пыталась вселиться» [24, л. 91]. Недовольство жильцов вызывала власть председателей жилищных товариществ, которые, используя угрозы, вселяли «нужных» людей и выселяли неуживчивых соседей [25, л. 143].
На страницах периодических изданий можно обнаружить ценные нарративные источники, позволяющие реконструировать повседневные практики обывателя в период НЭПа. Периодическая печать старалась рассмотреть жилищный вопрос с различных ракурсов, публикуя не только законодательные акты, статистические данные и отчеты государственных органов, но и освещая жилищные проблемы, с которыми непосредственно соприкасался человек, что подтверждается и многочисленными архивными документами. Сатирические журналы позволяют выявить жилищные пороки в условиях нерешенных вопросов.
Список литературы Жилищный вопрос в советской России в 1920-е гг. в отражении периодической печати
- Микуленок Ю.А.: 1) Жилищные конфликты и эмоциональный мир обывателя в 1920-е гг. (на примере Юга России) // Общество: философия, история, культура. 2017. № 5. С. 75-78. https://doi.org/10.24158/fik.2017.5.18 ; 2) Жилищный вопрос в раннесоветский период в письмах студентов «во власть» // Там же. 2019. № 7 (63). С. 67-71. https://doi.org/10.24158/fik.2019.7.12 ; 3) Причины жилищного кризиса в городах в первое десятилетие после установления советской власти // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. № 2. С. 105-110 ; и др.
- Сопетников М. Жилищный вопрос (материалы к докладу Пленуму Московского совета 21 февраля) // Рабочая Москва. 1923. № 9. С. 3.
- Там же.
- Попов Н. Жилищный вопрос в Москве // Там же. № 23. С. 3.
- Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-1185. Оп. 1. Д. 79. Л. 116.
- Как разрешить жилищный кризис // Коммуналка. 1929. № 3. С. 4.
- Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг.: город / пер. с англ. Л.Ю. Пантиной. М., 2001. 336 с.
- Sosnovy T. The Soviet Urban Housing Problem // American Slavic and East European Review. Vol. 11, no. 4. P. 288-303. https://doi.org/10.2307/2492010.
- Попов Н. Указ. соч. С. 3.
- Кожаный Е. Борьба за новое жилище и за новый быт // Коммунистка. 1925. № 5. С. 39-44.
- Валевский Н. Борьба за жилище (письмо из Петрограда) // Красное знамя. 1923. № 7. С. 1-2.
- Жилищный вопрос // Красное знамя. 1923. № 161. С. 1.
- С. Кр. Где же выход? (К жилищному вопросу) // Там же. № 184. С. 1.
- Орлов И.Б. Советская повседневность. Исторический и социологический аспекты становления. М., 2010. 317 с.
- О продаже комнат // Жилищное строительство. 1926. № 3-4. С. 32-33.
- По народным судам. Кусочки быта // Известия ВЦИК. 1923. № 262. С. 7.
- Орлов И.Б. Указ. соч. С. 13.
- Там же. С. 18.
- Фицпатрик Ш. Указ. соч. С. 59.
- Красное Жало. Жилсватовство // Крокодил. 1924. № 1. С. 14.
- Свэн. Руководство по борьбе с уплотнением (для совнэпманов) // Там же. 1923. № 3. С. 534.
- По народным судам. Кусочки быта // Известия ВЦИК. 1923. № 272. С. 6.
- Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Ф. 6. Оп. 1. Д. 460. Л. 6.
- Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 437. Л. 91.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-374. Оп. 21. Д. 76. Л. 143.