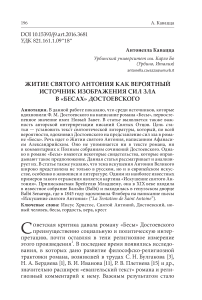Житие святого Антония как вероятный источник изображения сил зла в "Бесах" Достоевского
Автор: Кавацца Антонелла
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной работе показано, что среди источников, которые вдохновили Ф. М. Достоевского на написание романа «Бесы», первостепенное значение имел Новый Завет. В статье выявляется также важность авторской интерпретации писаний Святых Отцов. Цель статьи - установить текст святоотеческой литературы, который, по всей вероятности, вдохновил Достоевского на представление сил зла в романе «Бесы». Речь идет о Житии святого Антония, написанном Афанасием Александрийским. Оно не упоминается ни в тексте романа, ни в комментариях к Полным собраниям сочинений Достоевского. Однако в романе «Бесы» имеются некоторые свидетельства, которые оправдывают такое предположение. Данная статья рассматривает и анализирует их. В статье также указано, что тема искушения Антония Великого широко представлена не только в русском, но и в европейском искусстве, особенно в живописи и литературе. Одним из наиболее известных примеров такого отражения является картина «Искушение святого Антония». Приписываемая Брейгелю Младшему, она в XIX веке входила в известное собрание Бальби (Balbi) и находилась в генуэзском дворце Balbi Senarega, где в 1845 году вдохновила Флобера на написание пьесы «Искушение святого Антония» (“La Tentation de Saint Antoine”).
Иисус христос, святой антоний, достоевский, новый человек, бесы, гордость, вера, крест
Короткий адрес: https://sciup.org/14748966
IDR: 14748966 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3681
Текст научной статьи Житие святого Антония как вероятный источник изображения сил зла в "Бесах" Достоевского
Советская критика давала роману «Бесы» Достоевского преимущественно социальную и политическую интерпретацию, почти оставляя в тени религиозное измерение этого произведения1. В последнее время появились исследования, в которых дано развитие философско-религиозной трактовки романа, возникшей в трудах С. Н. Булгакова [3], Н. А. Бердяева [1], В. И. Иванова [11], Р. В. Плетнева [15] и др., значительно расширен «евангельский текст» романа и религиозный комментарий к нему. Важным результатом стало изучение личного экземпляра Нового Завета 1823 года издания, подаренного Достоевскому во время его заключения в Сибири. В этом исследовании описаны маргиналии Достоевского [13]2, подчеркнута важность Евангелия как источника вдохновения великого русского писателя [5]3, раскрыто значение библейских цитат для понимания смысла произведений Достоевского [18]. Важность Библии и творений Отцов Церкви в художественном творчестве Достоевского отмечена в монографии итальянской исследовательницы С. Сальвестрони, переведенной и на русский язык [22]; [16].
Настоящая работа имеет целью установить значение святоотеческой традиции, вдохновившей, по всей вероятности, Достоевского на представление сил зла в романе «Бесы», в 1871–1872 годах публиковавшемся в журнале «Русский Вестник». Мы полагаем, что речь может идти о Житии святого Антония, написанном Афанасием Александрийским. Явным образом оно не упоминается ни в тексте романа, ни в комментариях к Полным собраниям сочинений Достоев-ского 4 . Между тем в романе «Бесы» имеются некоторые свидетельства, дающие повод к такому предположению. Основная задача статьи — выявить и проанализировать их.
В восточной традиции борьба основателя христианского монашества святого Антония с демонами известна не только посвященным монахам, но каждому верующему. К ней отсылают Минеи-Четьи, которые обрели большую популярность в русском православном мире5. В каталоге книг, составлявших библиотеку Достоевского, отсутствует первое русское издание творений святого Афанасия, епископа Александрийского, опубликованное в журнале Московской духовнойакадемии (1851–1854) вприбавленияхк «Твореніямъ святыхъ отцевъ, въ русскомъ переводѣ», где содержится полный текст Жития Антония под заглавием «Житiе препо-добнаго отца нашего Антонія, описанное святымъ Аѳанасiемъ въ посланіи къ инокамъ, пребывающимъ въ чу-жихъ странахъ»6. Однако в списке изданий, принадлежавших Достоевскому, числится книга «Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четиих Миней» (далее «Избранные жития»), опубликованная в Москве в 1867–1868 годах [2, 121]. В статье «О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности восточного вопроса» («Дневник Писателя», 1877) Достоевский отмечает, что Четьи-Минеи малодоступны простому народу: «Да и достать их трудно: надо купить, а попробуйте попросите почитать на время в приходе — не дадут. И вот, верите ли вы тому, что по всей земле русской чрезвычайно распространено знание Четьи-Минеи — о, не всей, конечно, книги, — но распространен дух ее по крайней мере, — почему же так?»7. Он сам же отвечает впоследствии, что успех этой книги связан с тем, что много живет в России «рассказчиков» и «рассказчиц житий святых», которые рассказывают эти истории по Четьим-Минеям. Такие сказители отличаются тем, что не добавляют ничего от себя и народом выслушиваются «со вниманием», о чем свидетельствует от первого лица автор «Бесов»:
Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились изустно. В этих рассказах, и в рассказах про святые места, заключается для русского народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное8.
Это замечание Достоевского показывает, что Четьи-Ми-неи сыграли важную роль в его религиозном образовании, из чего можно сделать вывод, что он почти наверняка был знаком с Житием святого Антония именно благодаря этому собранию. Четьи-Минеи оказали очевидное влияние даже на структуру романа «Бесы», где автор излагает историю не от своего лица, а от имени повествователя (хроникера), что придает авторитетности и правдоподобия рассказанным им событиям, свидетелем которых хроникер в значительной степени являлся. Как уже было отмечено, в этом произведении не так важен рассказчик, как факты, им рассказанные9. В самом деле, повествователь с первых страниц романа заявляет: «Какъ хроникеръ я ограничиваюсь лишь тѣмъ что представляю событія въ точномъ видѣ, точно такъ какъ они произошли, и не виноватъ если они покажутся невѣ-роятными»10. Этим предупреждением Антон Лаврентьевич приравнивается к составителям древних летописей, предлагая бесстрастное повествование о событиях, которые кажутся правдоподобными, даже когда дело доходит до чрезвычайных происшествий. Аналогичное заявление — сообщать только реальные события — присутствует также в прологе святого Афанасия к Житию преподобного Антония: «Во всемъ же заботился я объ истинѣ, чтобы иный, услышавъ больше надлежащаго, не впалъ въ невѣріе, или также узнавъ меньше должнаго, не сталъ съ неуваженіемъ думать объ Антоніѣ»11. Тем не менее романные события даны с точки зрения хроникера, молодого человека «классическаго воспитанiя»12, сознание которого отражает «несколько уровней восприятия Евангелия» [19, 207] и святоотеческой и духовной литературы.
Словесный образ святого Антония из сборника «Избранные жития» лаконичен, но выразителен. Его учение может быть сведено к трем постулатам: 1) бороться с самим собой, чтобы отогнать мысли суетные и коварные; 2) работать и молиться постоянно, чтобы угодить Богу и достичь мира в сердце; 3) быть скромным, чтобы противостоять высокомерию ума 13 .
Избранные жития, однако, не являются единственным источником, относящимся к раннехристианскому подвижнику, основателю отшельнического христианского монашества, который, как мы полагаем, вдохновил великого русского писателя. Из переписки последнего с братом Михаилом мы знаем, что в 1849 году, находясь в заключении в Петропавловской крепости, Достоевский читал труды святого митрополита Димитрия Ростовского 14 , которые косвенно перекликаются с учением Антония 15 .
Среди произведений Димитрия Ростовского, в которых можно найти отзвуки учения святого отшельника, заслуживает упоминания, в частности, сборник «Врачевство духовное на смущенiе помысловъ, отъ различныхъ книгъ Отече-скихъ вкратцѣ собранное»16. Это собрание святоотеческих текстов о разных духовных вопросах, где подвигу смирения для противостояния осаде демонов посвящается раздел, озаглавленный «Отъ Патерика, Слово 12». Хотя в приводимой ниже непрямой цитате из Древнего Патерика не упомянуто имя святого Антония, тем не менее узнаются его духовные поучения относительно хранения помыслов:
…хульный помыслъ бываетъ отъ оклеветанія, и отъ еже укоряти и осуждати, и отъ лѣности и воли своея, и отъ гордыни, отсюду хулы въ помыслѣхъ бываютъ; аще же человѣкъ не сопротивится имъ смиреніемъ, и самаго себѣ уничиженіемъ; то во злобахъ останетъ окаянная душа, или въ бѣсѣ блудномъ, или во изступленіи ума17.
Очень важное значение для целей нашего исследования имеет «Житие преподобного отца нашего Антония Великого» в составе знаменитых Четьих-Миней Димитрия Ростов-ского 18. Для нас не так важно, входит ли этот текст, к которому обращался Достоевский в период своего заключения, в издание творений святителя, поскольку Житие святого Антония, составленное Димитрием Ростовским, пользовалось известностью и имело широкое распространение в рос- 19 сийских православных кругах .
Следы знания русским писателем Жития Антония Великого можно найти на протяжении всего романа «Бесы», в котором чередуются «свет» и «тьма». Достоевский не сомневается, что Николай Всеволодович Ставрогин не только страдает от галлюцинаций, но на самом деле подвержен искушениям беса, о которых рассказывается от имени повествователя романа, хроникера Антона Лаврентьевича:
И вдругъ онъ, впрочемъ въ самыхъ краткихъ и отрыви-стыхъ словахъ, такъ что иное трудно было и понять, разказалъ что онъ подверженъ, особенно по ночамъ, нѣкотораго рода галюсинаціямъ что онъ видитъ иногда или чувствуетъ подлѣ себя какое-то злобное существо, насмѣшливое и «разумное», «въ разныхъ лицахъ и въ разныхъ характерахъ, но оно одно и тоже, а я всегда злюсь…»20.
В отдельном издании «Бесов» 1873 года Достоевский, отказавшись «от мотива развития душевной болезни Ставрогина» [7, 329], снял диалог, который был в журнальной редакции романа (см. об этом: [4]):
— Я опять его видѣлъ, проговорилъ Ставрогинъ почти ше-потомъ, отвертываясь въ сторону.
— Боже мой!
— Сначала здѣсь въ углу, вотъ тутъ у самаго шкафа, а по-томъ онъ сидѣлъ все рядомъ со мной, всю ночь, до и послѣ моего выхода изъ дому… Не входи, Алексѣй Егоровичъ! крикнулъ онъ старику, показавшемуся въ дверяхъ съ подносомъ въ рукѣ.
— Этого уже три мѣсяца съ вами не было!
— Да, три мѣсяца; больше. (Безпокойство и тревога все сильнѣе и сильнѣе овладѣвали имъ.) Чтò вы такъ засматриваете мнѣ въ лицо? Теперь начнется рядъ его посѣщеній. Вчера онъ былъ глупъ и дерзокъ. Это тупой семинаристъ, самодовольство шестидесятыхъ годовъ, лакейство мысли, лакейство среды, души, развитія, съ полнымъ убѣжденіемъ въ непобѣдимости своей красоты… ничего не могло быть гаже. Я злился что мой собственный бѣсъ могъ явиться въ такой дрянной маскѣ. Никогда еще онъ такъ не приходилъ. Я впро-чемъ все молчалъ, нарочно; я не только молчалъ, я былъ не-подвиженъ. Онъ за это ужасно злился, и я очень радъ что онъ злится. Я теперъ даже радъ.
Даша въ совершенномъ испугѣ схватила его за руку.
— Николай Всеволодовичъ, опомнитесь! вскричала она.
— Чтò вы? какъ бы удивился онъ ея волненію, — вѣдь вы знаете что у меня такая болѣзнь. Я вамъ одной только и открылъ про нее на свѣтѣ, и никто этого не знаетъ. Постойте, неужели я вамъ не открывалъ? смотрѣлъ онъ на нее въ недоумѣніи, какъ бы что-то припоминая. Если такъ, то я дѣйствительно брежу или… съ ума сошелъ, прибавилъ онъ въ невыразимой тоскѣ, ожидая отвѣта.
— Нѣтъ, нѣтъ, не пугайтесь, вы мнѣ открыли, одной мнѣ, въ Швейцаріи. Я не того испугалась сейчасъ, а того какъ вы о немъ говорили. Вы такъ говорите какъ онъ въ самомъ дѣлѣ есть. Боже сохрани васъ отъ этого! вскричала она въ отчаяніи.
— О, нѣтъ, я въ него не вѣрю, успокойтесь, улыбнулся онъ. — Пока еще не вѣрю. Я знаю что это я самъ въ разныхъ видахъ, двоюсь и говорю самъ съ собой. Но все-таки онъ очень злится; ему ужасно хочется быть самостоятельнымъ бѣсомъ и чтобъ я въ него увѣровалъ въ самомъ дѣлѣ. Онъ смѣялся вчера и увѣрялъ что атеизмъ тому не мѣшаетъ.
— Въ ту минуту какъ вы увѣруете въ него, вы погибли! Боже! И этотъ человѣкъ хочетъ обойтись безъ меня! съ болью въ сердцѣ вскричала Даша. — Слушайте, когда мы будемъ свободны, я сяду подлѣ васъ и онъ никогда не придетъ.
— Знаете его вчерашнюю тему? Онъ всю ночь утверждалъ что я фокусничаю, ищу бремени и неудобоносимыхъ трудовъ, а самъ въ нихъ не вѣрую. Но меня чтò поразило? Представьте, сейчасъ вдругъ Кириловъ, въ одно слово съ семинаристомъ, го-воритъ то же самое…
Онъ вдругъ захохоталъ, и это было ужасно нелѣпо. Дарья Павловна вздрогнула и отшатнулась отъ него.
— Бѣсовъ было ужасно много вчера! вскричалъ онъ хохоча, — ужасно много! Изо всѣхъ болотъ налѣзли21.
Этот эпизод романа Достоевского вызывает в памяти слова св. Афанасия Александрийского, который писал в Житии Антония:
А при такомъ образѣ жизни будемъ постоянно трезвиться и, какъ написано, всяцѣмъ храненіемъ блюсти сердце (Притч. 4, 23). Ибо имѣемъ у себя страшныхъ и коварныхъ враговъ, лука-выхъ демоновъ; съ ними у насъ брань, какъ сказалъ Апостолъ: нѣсть наша брань къ крови и плоти, но къ началомъ и ко вла-стемъ, и къ міродержителемъ тмы вѣка сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Ефес. 6, 12). Великое ихъ множество въ окру-жающемъ насъ воздухѣ, и они недалеко отъ насъ. Великая же есть между ними разность, и о свойствахъ ихъ, и о разностяхъ продолжительно можетъ быть слово; но такое разсужденіе пусть будетъ предоставлено другимъ, которые выше насъ; теперь же настоитъ крайняя намъ нужда узнать только козни ихъ противъ насъ22.
В «Житии преподобного отца нашего Антония Великого» святой митрополит Ростовский передал это место так:
Самимъ Богомъ указано намъ съ неослабнымъ вниманіемъ слѣдить всегда за тѣмъ, что происходитъ у насъ въ душѣ, потому что у насъ есть очень хитрые въ борьбѣ враги, — разумѣю демоновъ, — и намъ, по словамъ апостола, предстоитъ непрестанная борьба съ ними. Безчисленное множество ихъ носится въ воздухѣ, цѣлыя полчища враговъ окружаютъ насъ со всѣхъ сторонъ. Я не могъ бы разъяснить вамъ всѣ различія между ними; скажу лишь кратко о тѣхъ извѣстныхъ мнѣ способахъ, какими они пытаются обольщать насъ23.
В романе Достоевского чаще всего мы встречаем персонификацию зла в лице Петра Верховенского. В ряде случаев последний берет на себя роль соблазнителя, который пытается различными способами обмануть Николая Всеволодовича. Например, в следующем месте он делает упор на лести:
— Ставрогинъ, вы красавецъ! вскричалъ Петръ Степано- 24
вичъ почти въ упоенiи, — знаете ли что вы красавецъ!
Верховенский — искуситель, который, не колеблясь, соблазняет на преступные деяния и открыто вызывает похоть в Ставрогине, например, в следующей сцене:
— Слушайте, наклонился къ его уху Верховенскiй: — я вамъ безъ денегъ; я кончу завтра съ Марьей Тимоѳеевной… безъ де-негъ, и завтра же приведу къ вамъ Лизу. Хотите Лизу, завтра 25
же?
Однако признаки одержимости проявляются в поведении главного героя романа тоже. Ставрогин подвержен постоянным изменениям настроения, вспышкам гнева, которые чередуются с моментами абсолютной отчужденности. В беседе с Тихоном в Спасо-Ефимьевском Богородском монастыре Николай Всеволодович выражается «со странною откровенностью». Относительно существования бесов он нарочно задает вопрос архиерею:
— Вы такъ говорите утвердительно… Вы видали такихъ какъ я, съ такими видѣнiями?
Тихон отвечает: «Видывалъ, но очень рѣдко» 26 . В свою очередь монах спрашивает: «И давно вы сему подвержены?»
В ответ Ставрогин отрицает, но в то же время подтверждает ранее сказанное:
— Около году, но все это вздоръ. Я схожу къ доктору. И все это вздоръ, вздоръ ужасный. Это я самъ въ разныхъ видахъ и больше ничего. Такъ какъ я прибавилъ сейчасъ эту… фразу, то вы навѣрно думаете что я все еще сомнѣваюсь и неувѣренъ что это я, а не въ самомъ дѣлѣ бѣсъ?27
Мы знаем, что, создавая образ старца Тихона, Достоевский вдохновлялся святым Православной Церкви — святителем Тихоном Задонским, одним из самых любимых русским народом святых, который был великим почитателем креста и неоднократно в своей жизни боролся с беса-ми 28 . Создавая образ этого возвышенного и святого героя, писатель задумал «положительный тип», который, по его мнению, искала русская литература 29 . Тихон не только не удивляется вопросам Ставрогина, но и задает свои вопросы:
— И… вы видите его дѣйствительно? спросилъ онъ, то-есть устраняя всякое сомнѣнiе въ томъ что это несомнѣнно фальшивая и болѣзненная галюсинацiя, видите ли вы въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь образъ!30
На этот вопрос Ставрогин отвечает с раздражением: …разумѣется вижу, вижу такъ какъ васъ… а иногда вижу и неувѣренъ что вижу, хоть и вижу… а иногда не увѣренъ что я вижу и не знаю чтò правда: я или онъ… вздоръ все это. А вы развѣ никакъ не можете предположить что это въ самомъ дѣлѣ бѣсъ! прибавилъ онъ засмѣявшись и слишкомъ рѣзко переходя въ насмѣшливый тонъ, — вѣдь это было бы сообразнѣе съ вашей профессiей?31
В этот момент, не отрицая возможности того, что видения Ставрогина могут быть следствием какой-то болезни, Тихон допускает, в свою очередь, существование демонов, добавляя: «…но пониманiе о нихъ можетъ-быть весьма различ-ное»32. Как пишет Афанасий Александрийский, бесы могут принимать разнообразные формы. В Житии неоднократно говорится, что «они коварны и готовы во все превращаться, принимать на себя всякiе виды»33, готовы захватывать воображение человека и вселять в него похотливые желания, мысли, темные, тревожные и чудовищные образы. И это описание дьявола нашло пространное отражение в жизненном опыте главного героя «Бесов». Ставрогин фактически не только подавлен нападениями дьявола, но и становится жертвой злых сил. В письменной исповеди он признался в невыразимых злодеяниях, самым серьезным из которых была косвенная вина в самоубийстве девочки-подростка, которую ранее он лишил невинности. Кроме того, только из-за лени и слабости этот молодой человек из богатой провинциальной семьи стал членом тайного революционного общества, которое возглавил Верховенский. Устами Шатова Достоевский выдает непотребство поведения Ставрогина:
— Гм. А правда ли что вы, злобно ухмыльнулся онъ, — правда ли что вы принадлежали въ Петербург^ къ скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли что маркизъ де-Садъ могъ бы у васъ поучиться? Правда ли что вы заманивали и развращали дѣтей? Говорите, не смѣйте лгать, вскричалъ онъ совсѣмъ выходя изъ себя, — Николай Ставрогинъ не можетъ лгать предъ Шатовымъ, бившимъ его по лицу! Говорите все, и если правда, я васъ тотчасъ же, сейчасъ же убью, тутъ же на мѣстѣ!34
Писателю понадобилась череда этих трагических риторических вопросов, которые в свете событий, описанных в романе, находят утвердительный ответ, чтобы хотя бы косвенно воскресить в памяти евангельские добродетели, растоптанные Ставрогиным. И к этим же добродетелям призывает своим учением святой Антоний следующими словами:
— Великую силу, возлюбленные братья, имѣютъ противъ дiавола чистая жизнь и непорочная вѣра въ Бога. Повѣрьте моему опыту, — для сатаны страшны бодрствованiе живущихъ по волЪ Божiей людей, ихъ молитвы и посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смиренiе, любовь, сдержанность, больше же всего — ихъ чистосердечная любовь ко Христу35.
В книге «Зерцало православнаго исповѣданiя» — сумме принципов и правил для пользы православного верующего, составляющей часть собрания творений святого митрополита Ростовского, которое Достоевский прочитал в Петропавловской крепости, — сказано, что « Грехъ есть хотѣнiе необузданное человѣка или дiявола», в то время как «ДОБРОДѢТЕЛЬ есть плодъ, раждающiйся отъ вѣры»; и « добродетель разделяется тако <...> ВЪРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Список тяжких грехов, которым открыто и ясно противопоставлены соответствующие добродетели, выглядит следующим образом: Гордость — Смирение ;
Лихоимство — Щедрость ; Блуд — Чистота или Целомудрие ; Зависть — Доброхотство ; Чревонеистовство — Воздержание ; Памятозлобие — Терпение ; Уныние — Внимание 36 .
Ставрогин воплощает многие из этих пороков. Наделение этими пороками главного героя романа «Бесы» является своего рода молчаливым призывом к поискам веры и делам добродетели, который Достоевский обращает к современникам, особенно к молодым людям, многие из которых соблазнились революционными нигилистическими и социалистическими идеями. В глазах писателя эти идеи представляют собой угрозу, поскольку стремятся искоренить христианскую веру и нравственные принципы, которые вытекают из нее.
Порочная демоническая фигура главного героя романа, вместе со столь же зловещими портретами его приспешников, вызывает у читателя желание увидеть диаметрально противоположного, положительного героя. Достоевский таким образом обращает внимание на те ценности, которые русский народ хранил во все времена, и в первую очередь — православную веру и христианские добродетели. Писатель, однако, уточняет в записной тетради в июне 1870 года, что «не мораль Христова, не ученiе Христа спасаетъ мiръ<,> а именно вѣра въ то что слово плоть бысть»; и далее добавляет: «Вѣра эта не одно умственное признанiе превосходства его ученiя, а непосредственное влеченiе. Надо именно вѣрить, что это окончательный идеалъ человѣка, все воплощенное слово, Богъ воплотившiйся» 37 .
Такую безусловную веру мы встречаем и в очерке Жития св. Антония. Как ранние христианские мученики, основоположник пустынножительства пребывает в тесном общении со Христом, Который Своими страданиями одержал победу над смертью и адом. В повседневной жизни эта связь выражается в подражании Христу, в сражении с лукавым.
В Житии св. Антония также откровенно говорится, что бесы «особенно страшатся знаменiя креста Господня»38. Знаменателен тот факт, что Ставрогин и Петр Верховенский введены в повествование 14 сентября 1869 года, в праздник Воздвижения Креста. Кроме того, отнюдь не случайна этимология фамилии главного героя, которая происходит от греческого «σταυρóς», что значит буквально «крест»39. Стоит отметить, что Димитрий Ростовский особо почитал Страсти Христовы. Он полагал их орудием против греха и в то же время средством совершенствования, которое может привлечь к себе грешника, вернуть, возродить, исцелить и очистить его. Для Достоевского крест больше, чем символ, — это программа жизни, принятие креста и страдания являются единственным путем, который может привести героя романа к желанному внутреннему возрождению и воскресению.
В Житии Антония Великого митрополит Ростовский не раз утверждает, что крест и крестное знамение необходимы, чтобы различать добро и зло, чтобы распознавать злых духов, их хитрость и обольстительность 40 ; об этом здесь говорится явно: «Знаменiе креста и вѣра въ Бога служатъ для насъ неодолимой стѣной огражденiя» 41 . Как для Антония Великого, так и для Димитрия Ростовского крест — это могущественное орудие в борьбе против дьявола. Это подтверждается с особой силой в «Сказанiи о воздвиженiи чест-наго животворящаго Креста Господня», которое заключено в его собственных Четьих-Минеях от 14 сентября, в день, когда Православная Церковь отмечает праздник Воздвижения Креста 42 .
Пылким почитателем креста был не только Димитрий Ростовский, но и Тихон Задонский, которому, по свидетельству близких ему людей, было благодатно даровано особое отличие: явление Иисуса Христа, истекающего кровью 43 . В романе Достоевского в словах Тихона явлено почитание креста, характерное для святителей Димитрия Ростовского и Тихона Задонского: «Всегда кончается тѣмъ что наипозорнѣйшiй крестъ становился великою славой и великою силой, если искренно было смиренiе подвига» 44 .
Еще одним признаком в пользу вероятного знания Достоевским Жития святого Антония и его косвенного использования в композиции «Бесов» являются в романе эпиграфы. Цитата из Нового Завета (Лк. 8:32–36) вместе со стихами Пушкина, предшествующими роману, символически напоминает, что силы зла бессильны против Бога. Эпизод
Евангелия от Луки относится, хотя и неявно, и к жизни святого Антония, изложенной Афанасием. Напоминая об испытаниях Иова, епископ Александрийский замечает: «И неудивительно, что [ дiаволъ ] не въ силахъ былъ что-либо сделать съ Iовомъ, когда не могъ погубить и скота его, если бы не по-пустилъ ему Богъ. Даже надъ свинiями не имѣетъ власти дiаволъ. Ибо, какъ написано въ Евангелiи, демоны пpосили Господа, говоpя: повели намъ идти въ свиней (Мф. 8:31). Если же не имѣютъ власти надъ свинiями, тѣмъ паче не имѣютъ надъ человѣкомъ, созданнымъ по образу Божiю» 45 .
Отметим, что в русской версии Жития Антония в изложении Афанасия, изданной Московской духовной академией, переводчик в своем примечании отсылает к Евангелию от Матфея (Мѳ. 8:31). Это место параллельно цитате из Евангелия от Луки (Лк. 8:32–36), которая выбрана Достоевским эпиграфом романа. Эта отсылка не содержится в кратком Житии святого Антония, включенном в «Избранные жития». В Житии же св. Антония, составленном Димитрием Ростовским, она, напротив, упоминается, но лишь опосредованно. Здесь передается только дух евангельского эпизода с упоминанием «образа свиньи»:
Много разъ преподобный отецъ нашъ Антонiй Великiй раз-сказывалъ и о являвшемся ему точно такомъ же дiавольскомъ образѣ, который предносился просвѣщенному Богомъ взору Iова:
6'чн erw кид4нТе денницы: из оу ста grw нсдодАта дкн скопцы горАфЫА, н рдзяещ^тсА дкн искры огненнн: нз ноздрей егш йс^о-дит« дыма п^фн ropAipiA огнема »^гл1а: д^ш* же yrw mkw атл'и, н mkw 1М4мы из фта ёгш нс^одита
Въ такомъ страшномъ видѣ являлся князь бѣсовскiй. Онъ хотѣлъ бы мгновенно погубить весь мiръ, но въ дѣйст-вительности не имѣетъ никакой силы: всемогущество Божiе укрощаетъ его, подобно тому какъ животное управляетъ уздой, или какъ свободу плѣнника уничтожаютъ оковы его. Онъ боится и крестнаго знаменiя и добродѣтельной жизни правед- 46 никовъ…
В романе мы не находим описания дьявола в духе средневековых иконографических изображений. Скорее всего, здесь настойчиво описываются последствия, которые он вызывает в действительности, когда входит в сердце человека и овладевает им, подчиняя себе его образ и мысли. Обращает на себя внимание тот факт, что отрывок из Евангелия от Луки (8:32– 36) полностью приводится в романе в главе «Последнее странствование Степана Трофимовича». Здесь Степан Трофимович, в облике которого представлен Т. Н. Грановский, ведущий западник сороковых годов XIX века 47 , категорическим тоном требует прочитать ему этот евангельский отрывок, который поддерживает его в последние дни жизни:
Софья Матвѣевна знала Евангелiе хорошо и тотчасъ отыскала отъ Луки то самое мѣсто которое я и выставилъ эпиграфомъ къ моей хроникѣ. Приведу его здѣсь опять:
«Тутъ же на горѣ паслось большое стадо свиней, и бѣсы просили Его чтобы позволилъ имъ войти въ нихъ. Онъ по-зволилъ имъ. Бѣсы вышедши изъ человѣка вошли въ свиней, и бросилось стадо съ крутизны въ озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побѣжали и разказали въ городѣ и въ селенiяхъ. И вышли видѣть происшедшее, и пришедши къ Iисусу нашли человѣка изъ которaго вышли бѣсы, сидящаго у ногъ Iисусовыхъ, одѣтаго и въ здравомъ умѣ, и ужаснулись. Видѣвшiе же разказали имъ какъ исцѣлился бѣсновавшiйся»48.
Убедить тогдашнюю молодежь в несостоятельности и бессодержательности мысли западников сороковых годов, предшественников, как полагал Достоевский, идей таких революционных групп, как нечаевская, было одной из целей, преследуемых автором романа «Бесы», почему роман и назвали «политическим памфлетом». И тогда не случайно, что как раз от имени Степана Трофимовича (отца Петра Верховенского, которому приданы черты революционера Нечаева) Достоевский предлагает следующее толкование эпизода из Евангелия от Луки (8:32–36), сопоставляя его с положением России того времени:
Эти бѣсы выходящiе изъ больнаго и входящiе въ свиней — это всѣ язвы, всѣ мiазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята накопившiеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россiи, за вѣка, за вѣка! Oui, cette Russie, que j’aimais toujours49. Но великая мысль и великая воля осѣнятъ ее свыше, какъ и того без-умнаго бѣсноватаго, и выйдутъ всѣ эти бѣсы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будутъ проситься войти въ свиней. Да и вошли уже можетъ-быть! Это мы, мы и тѣ, и Петруша… et les autres avec lui50, и я можетъ-быть первый, во главѣ, и мы бросимся, безумные и взбѣсившiеся, со скалы въ море и всѣ потонемъ, и туда намъ дорога, потому что насъ только на это вѣдь и хватитъ. Но больной исцѣлится и «сядетъ у ногъ Iисусовыхъ»… и будутъ всѣ глядѣть съ изумленiемъ… Милая, vous comprendrez après51, а теперь это очень волнуетъ меня… Vous comprendrez après… Nous comprendrons ensemble52 53.
В этом эпизоде Достоевский выражает критическое отношение к движению западников, выразителем ключевых идей которых выступает в романе Степан Трофимович. Некоторые комментарии к этому отрывку можно найти в подготовительных материалах к роману, где автор заявляет о необходимости противостояния Антихристу, которого он отождествляет с духом Запада 54 . В словах Степана Трофимовича, сохранившего трезвость мысли, несмотря на лихорадочное состояние, выражена цель романа. Она также раскрыта в письме Достоевского к А. Н. Майкову от 9 (21) октября 1870 года, где писатель прямо указывает на тесную связь между Евангелием от Луки и темой, которую он развивал в романе «Бесы»:
Правда, фактъ показалъ намъ тоже, что болѣзнь, обуявшая цивилизованныхъ русскихъ, была гораздо сильнѣе, чѣмъ мы сами воображали и что Бѣлинскими, Краевскими и проч. дѣло не кончилось. Но тутъ произошло то, о чемъ свидѣтельствуетъ Евангелистъ Лука: Бѣсы сидѣли въ человѣкѣ и имя имъ было Легiонъ и просили Его: повели намъ войти въ свиней, и онъ позволилъ имъ. Бѣсы вошли въ стадо свиней и бросилось все стадо съ крутизны въ море и все потонуло. Когда-же окрестные жители сбѣжались смотрѣть совершившееся, то увидѣли бывшаго бѣсноватаго — уже одѣтаго и смыслящаго и сидящаго у ногъ Iисусовыхъ, и видѣвшiе разсказали имъ какъ исцѣлился бѣсновавшiйся. Точь въ точь случилось такъ и у насъ: Бѣсы вышли изъ /русскаго/ человѣка и вошли въ стадо свиней, т. е.
въ Нечаевыхъ<,> въ Серно-Соловьевичей и проч. Тѣ потонули или потонутъ навѣрно, а исцѣлившiйся человѣкъ, изъ ко-тораго вышли бѣсы, сидитъ у ногъ Iисусовыхъ. Такъ и должно было быть. Россiя выблевала вонъ эту пакость, которою ее окормили и ужъ конечно въ этихъ выблеванныхъ мерзавцахъ не осталось ничего русскаго. И замѣтьте себѣ дорогой другъ: кто теряетъ свой народъ и народность, тотъ теряетъ и вѣру Отеческую и Бога. — Ну, если хотите знать, — вотъ эта то и есть тема моего романа. Онъ называется Бѣсы и это описанiе того, какъ эти Бѣсы вошли въ стадо свиней. Безо всякаго сомнѣнiя я напишу плохо; будучи больше поэтомъ, чѣмъ художникомъ я вѣчно бралъ темы не по силамъ себѣ. И потому испорчу, это навѣрно. Тема слишкомъ сильна55.
Из этого письма Достоевского следует, что видение истории великим русским писателем коренится в Евангелии. В подготовительных материалах к роману Федор Михайлович подчеркивает, что русский народ несет миру «единственно нужное», то есть православие и «правое и славное вечное исповедание Христа», а на Западе воплотился антихрист 56 . Важность формулы «православие и народ» утверждается в заключении романа тем же Ставрогиным, который в письме к Даше вспоминает слова, услышанные от Шатова: «…кто теряетъ связи съ своею землей, тотъ теряетъ и боговъ своихъ, то-есть всѣ свои цѣли» 57 . Таким образом, в романе выражена идея почвенничества Достоевского, основанная на принципах народности и православия.
Сюжет борьбы египетского отшельника с демоном был широко известен в XIX веке и на Западе. Ему посвящена пьеса Г. Флобера «La Tentation de Saint Antoine».
Это произведение в результате многих переработок увидело свет в окончательном варианте только в 1874 году 58 , однако некоторые фрагменты второй версии были опубликованы в журнале «L’artiste» («Художник») в 1856–1857 годах 59 . У нас нет сведений о том, был ли Достоевский знаком с этим фрагментом, — известен только интерес, который он проявлял к творчеству французского писателя, внимание ко всему опубликованному Флобером на языке оригинала.
Религиозная тема искушения Антония Великого широко представлена в европейской живописи, в особенности в гол- ландской, у таких художников, как Иероним Босх, Ян Брейгель Старший и Питер Брейгель Младший. Картина «Искушение святого Антония», которая в XIX веке приписывалась Брейгелю Младшему, входила в известное собрание Бальби (Balbi) и находилась в генуэзском дворце Balbi Senarega60, где в 1845 году ею любовался Флобер61. Известно, что во время пребывания в европейских столицах и знаменитых культурных центрах Достоевский стремился в первую очередь посетить картинные галереи. В 1863 году во время путешествия по Италии с А. П. Сусловой он остановился ненадолго в Генуе. Мы мало знаем о времени, которое великий писатель провел в этом лигурийском городе, не знаем, посетил ли он среди прочего и известное собрание Бальби, но исключать это нельзя.
Таким образом, среди источников, которые вдохновили Достоевского на написание романа «Бесы», первостепенное значение, кроме Нового Завета, имеют святоотеческие тексты, в том числе Житие св. Антония, составленное св. Афанасием Александрийским и отраженное в творениях святых Димитрия Ростовского и Тихона Задонского, а также других поборников учения святого египетского отшельника и основателя христианского монашества.
«Боже! И этотъ человѣкъ хочетъ обойтись безъ меня!
— Слушайте Даша, я теперь все вижу привидЪнiя» ( Бпсы2012 , 280).
Antonella Cavazza
Список литературы Житие святого Антония как вероятный источник изображения сил зла в "Бесах" Достоевского
- Бердяев Н. А. Ставрогин//Русская мысль. -1914. -Кн. 5. -Май. -С. 80-89.
- Библиотека Ф. М. Достоевского: опыт реконструкции. Научное описание/отв. ред. Н. Ф. Буданова. -СПб.: Наука, 2005. -338 с.
- Булгаков С. Н. Русская трагедия. О «Бесах» Ф. М. Достоевского в связи с инсценировкой романа в Московском художественном театре//Русская мысль. -1914. -Кн. 4. -Апрель. -С. 1-26.
- Захаров В. Н. «Бесы»: опыт реконструкции журнальной редакции романа//Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: . -Т. 9: приложение: Бесы: роман: опыт реконструкции журнальной редакции: текстологическое исследование, комментарии. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. -С. 673-706.
- Захаров В. Н. Достоевский и Евангелие//Евангелие Достоевского: . -М.: Русскiй Мiрь, 2010. -: исследования. Материалы к комментарию. -С. 5-35.
- Захаров В. Н. Заглавная буква в «Бесах», или почему нельзя править Достоевского//Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты. -Т. 9. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. -С. 661-676.
- Захаров В. Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. -М.: Индрик, 2013. -456 с.
- Захаров В. Н. Кто подарил Достоевскому Евангелие в январе 1850 года?//Неизвестный Достоевский : международный научный журнал. -2015. -№ 2. -С. 44-53. -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1447754621.pdf (20.05.2016).
- Захаров В. Н. Мужество познания//Достоевский Ф. М. Бесы. Роман в трех частях. -Петрозаводск: Карелия, 1990. -С. 3-16.
- Захаров В. Н. Текстология как технология//Проблемы текстологии Ф. М. Достоевского. -Вып. 1: проблемы текстологии романов «Преступление и Наказание», «Идиот», «Бесы». -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. -С. 3-26.
- Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия//Русская мысль. -1911. -Кн. 5. -Май. -С. 46-61 (2-я паг.); Кн. 6. -Июнь. -С. 1-17 (2-я паг.).
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. -М.: Наука, 1979. -303 с.
- Молчанов В. Ф. Евангелие Достоевского: оптико-электронная реконструкция авторских маргиналий//Евангелие Достоевского: /подг. текста, комм. В. Н. Захарова, В. Ф. Молчанова, Б. Н. Тихомирова. -М.: Русскiй Мiрь, 2010. -: исследования. Материалы к комментарию. -С. 36-43.
- Очерки по истории русской святости/сост. иеромонах Иоанн (Кологривов). -Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. -418 с.
- Плетнев Р. Святые Отцы Церкви и Достоевский (к столетию смерти писателя)//Русское Возрождение. -1981. -№ 3. -С. 14-42.
- Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. -СПб.: Академический проект, 2001. -187 с.
- Тихомиров Б. Н. Книги, бывшие у Ф. М. Достоевского во время пребывания в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (1849 год)//Неизвестный Достоевский : международный научный журнал. -2015. -№ 3. -С. 68-83. -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1449054179.pdf (20.05.2016).
- Тихомиров Б. Н. Отражения Евангельского Слова в текстах Достоевского. Материалы к комментарию//Евангелие Достоевского: /подг. статьи, комм. В. Н. Захарова, В. Ф. Молчанова, Б. Н. Тихомирова. -М.: Русскiй Мiрь, 2010. -: исследования. Материалы к комментарию. -С. 63-469.
- Шараков С. Л. Христианский символизм в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8. -C. 202-218 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516455.pdf (20.05.2016).
- Alizeri F. Guida artistica per la città di Genova (1847): . -Vol. 2, parte prima. -Bologna: Forni, 1969. -804 p.
- Lo Gatto E. Nota introduttiva//Dostoevskij F. M. I demoni. I taccuini per "I Demoni". -Firenze: Sansoni, 1958. -P. 801-805.
- Salvestroni S. Dostoevskij e la Bibbia. -Magnano (Biella): Qiqajon -Comunità di Bose, 2000. -277 p.