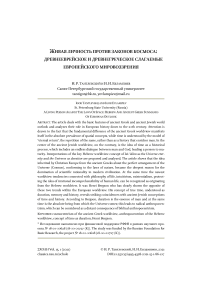Живая личность против законов космоса: древнееврейское и древнегреческое слагаемые европейского мировоззрения
Автор: Тантлевский Игорь Романович, Евлампиев Игорь Иванович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.15, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется основные черты древнегреческого и древнееврейского мировоззрения и прослеживается их роль в европейской истории вплоть до ХХ века. Обращается внимание на то, что принципиальное отличие древнегреческого мировоззрения в абсолютном преобладании в нем пространственных представлений, тогда как время понимается по модели «вечного возвращения», повторения того же самого, а не как история, обогащающая человека. В центре древнееврейского мировоззрения, наоборот, находится представление о времени как историческом процессе, включающим в себя бесконечный диалог человека с Богом, ведущий личность к зрелости. Предлагаются и анализируются интерпретации ключевого мировоззренческого еврейского понятия hā-ʽōlām как: мирозданная вечность и мир как длительность . В статье показано, что унаследованное христианской Европой от греков представление о совершенном закономерном устройстве мироздания (Космоса) стало наиболее глубокой причиной господства научной рациональности в современной цивилизации. В то же время новейшие мировоззренческие тенденции, связанные с философией жизни, интуитивизмом, экзистенциализмом, защищающие идею иррациональной непостижимости человеческой жизни, можно признать происходящими из древнееврейского мировоззрения. В ясной форме противоположность этих двух тенденций внутри европейского мировоззрения была показана Анри Бергсоном. В его концепции подлинного времени, понятого как длительность, память и история, обнаруживаются поразительные совпадения с древнееврейскими представлениями о времени и истории. Согласно Бергсону, длительность составляет сущность человека и одновременно является абсолютным бытием, из которого происходит мироздание; это ведет к радикальному антропоцентризму, который можно рассматривать как отдаленное следствие библейского антропоцентризма.
Космоцентризм греческого мировоззрения, антропоцентризм древнееврейского мировоззрения, понятие времени как длительности, анри бергсон
Короткий адрес: https://sciup.org/147215918
IDR: 147215918
Текст научной статьи Живая личность против законов космоса: древнееврейское и древнегреческое слагаемые европейского мировоззрения
Человек всегда являлся главной проблемой философии и религии, но его понимание во многом определено отношением ко времени. Время является важнейшим определением бытия личности, чувство времени, рациональное осмысление временного течения – это важнейшие качества человеческого сознания, то, что отличает человека от животных и делает духовным и разумным существом. Культура во многом, если не во всем, есть процесс «освоения» времени, выработка таких материальных форм, в которых человек выражает свою творческую деятельность во времени.
Однако разные культуры относились к времени по-разному, обладали разным чувством времени, и это задавало их принципиально различное отношение к себе самим, к миру и к высшей инстанции бытия. Систематизировать все разнообразные формы восприятия времени, характерные для известных культур в истории является сложной и объемной задачей, однако достаточно легко можно выделить две полярные формы отношения к времени, между которыми должны располагаться все промежуточные варианты. Эти полярные формы демонстрируют две великие культуры древности – древнееврейская и древнегреческая.
Хотя слово «история» имеет греческое происхождение, хорошо известно, что древние греки не знали истории в нашем понимании. Начиная с Геродота история для греков – это просто случайный ряд событий, который не воспринимался как органичное, последовательно развертывающееся целое. Признавая, что время существования всего мироздания и человека не может быть конечным, греки бесконечность будущего мыслили как повторение того же самого, как «вечное возвращение».1 Вечность понималась по модели бесконечного движения по кругу небесных тел. Греческое мировоззрение в качестве исходного, фундаментального полагало восприятие пространства , а не времени, греки были особенно внимательны к пространственным формам, к пластическим, скульптурным объемам. Идеалом, высшей формой существующего является здесь Космос, совершенная пространственная организация мира; ее совершенство заключается в неизменности; хотя в нем есть движение, развитие, оно никуда не ведет, замкнуто в круг.
Всё сущностное, духовное могло стать реальным и значимым для греков, только воплотившись в систему пластических, пространственных форм. В первую очередь это относится к греческому пониманию характера человека, ничего «скрытого», непроявленного в личности греки не признавали, характер – это то, что обязательно реализуется в поступке, в реальном материальном действии. Даже идеальные сущности вещей, идеи, которые вводит Платон в своей философии, наиболее естественно понимать в «статуарном» смысле, как идеальные пластические образцы вещей.
Весь смысл личной жизни человека был сконцентрирован для греков в моменте настоящего, в «теперь». Выразительность греческого концепта судьбы была связана именно с этим: один поступок мог «зачеркнуть» всю жизнь; всё прошлое, вся личная история часто имели гораздо меньшее значение, чем решительное действие, совершённое в настоящем.
Прямо противоположное отношение ко времени и противоположное чувство времени было у древних евреев, оно наглядно проступает через текст Еврейской Библии. Если для древнего грека совершенная форма существующего – это пространственная организация Космоса, то для древнего еврея такой совершенной формой является правильно прожитая жизнь, личная история праведника перед Богом. Время понимается именно как история, как органическая целостность жизни личности и народа. Хотя поступки, совершаемые в отдельные моменты времени, безусловно важны, их окончательный и полный смысл выявляется только в контексте целого, в контексте всей прожитой жизни и истории.
Ключевым для реконструкции древнееврейского мировоззрения является термин hā-‘ōlām. Вспомним его историю. На определенном этапе древние евреи, переосмысливая семитское понятие ʻlm (евр. огласовка: ʻōlām), начинают видеть в нем не повторяющие друг друга «мировые циклы», а необратимое «мировое время»,2 как бы перетекающее в «вечность» (которая иногда обозначается в Библии тем же термином, но употребленным во мн. ч.: ῾ōlāmîm3)4. В связи с этимологией и семантическим полем данного понятия С. С. Аверинцев замечает: «Исходное значение слова “ ʻолам” – “сокрытое”, “завешенное”, отсюда – “древность”, начальное пра-время, но также “будущ- ность”; две темные бездны времени позади и впереди человека. Постольку это слово означает “вечность”, но не в смысле неподвижной изъятости из времени, а в смысле совокупности и полноты времени. <...> Иначе говоря, “ ʻолам” – мир как время и время как мир»5. И. Ш. Шифман уточняет, что еврейский ʻōlām – это такая «вечность», которая «объемлет всю Вселенную6 в пространственном и временно́ м отношениях»7. Другими словами, можно сказать, что ʻōlām – это совокупная вселенская временнáя и пространственная целостность, не воспринимаемая человеком в своей целокупности, по крайней мере непосредственно.8 В эпоху эллинизма термин ʻōlām все более приобретает пространственные коннотации,9 в частности в рукописях Мертвого моря,10 так что его начинают прямо соотносить с греч. κόσµος.
ʻŌlām воспринимался древними евреями не только в качестве сотворенного Богом мира, позиционируемого как исторический процесс, но также и эсхатологически, включая собственно «Конец дней»11, знаменующий собой переход от истории (или, может быть, точнее, «предыстории» человечества) к эпохе с другим состоянием времени, новым порядком вещей и иными характеристиками бытия.12 В эпоху эллинизма данное представление выкристаллизовывается в концепцию будущего вечного «Царствия Божьего»; в раввинистическом иудаизме оно обозначается как ʻōlām hab-bāʻ , т. е. «грядущий мир» (или «грядущий век»13).
Возможно также, что изначально в странах Переднеазиатского Средиземноморья и в отдельных еврейских кругах бытовало представление о множественности «‘оламов»-«вечностей»/«миров»14, сменяющих друг дру-га.15 Как представляется, это может подразумевать текст Пс. 102[101]:26–28:
Издревле землю основал Ты, и деяние рук Твоих – небеса; они исчезнут, а Ты останешься (Таким же). Они все обветшают, подобно одежде, и, словно одеяние, Ты переменишь их – и они сменятся.
Но Ты – Тот же, и лета Твои (никогда) не закончатся.
Понятие «небо-и-земля» неоднократно используется в Библии для обозначения мироздания, начиная уже с первого стиха ( Быт. 1:1)16, так что их «смена», с космогоническо-онтологической точки зрения, означает творение новой Вселенной. Отметим далее, что встречающееся несколько раз в Библии выражение «от ʽолама (и) до ʽолама » ( mē - ʽôlām wǝ-ʽaḏ-ʽôlām )17 также, возможно, предполагает, что существовало представление о множественности мирозданий, или же, может быть точнее, мировых периодов, последовательно сменяющих друг друга, – но не повторяющихся (как, например, это представляли стоики), а переустраивающихся и, вероятно, совершенствующихся (ср., например, библейское представление о мире допотопном, по-слепотопном и эсхатологическом).
Переход от одного миропорядка к другому видится пророкам и как День Господень, как День Суда над народами и торжества Израиля. «День» перехода от текущей эпохи к эре справедливости и благоденствия может сопровождаться глобальными – даже вселенскими – катаклизмами, поэтому он обозначается также как «Конец дней», т. е. окончание эры несправедливости и страданий.18 В Иер. 4:23 в отношении хаотического состояния опустошенной, обезлюдевшей земли после глобального катаклизма – и перед будущим Возрождением – даже употреблено понятие tōhû wā-ḇōhû , которое встречается в Библии только еще один раз, в Быт. 1:2 и обозначает там примордиальную неупорядоченность.
Согласно отраженным в Библии представлениям, Господь Бог трансцен-дентен « ʽоламу », Он – вне сотворенного Им мирового времени и самого мироздания, над историей. Это принципиально отличает монотеистическую израильско-иудейскую религию от языческих религий, где боги миру имманентны, а «нуминозные» силы воспринимаются как внутриприсущие явлениям и предметам, как находящиеся в средоточии их существа и являющиеся той жизненной силой, которая вызвала их существование и развитие19. В то же время, по представлению евреев, Господь – это Бог ʽолама ( Быт. 21:33, Ис. 40:28), Царь ʽолама ( Иер. 10:10), т. е. Господин «вечности», включающей также и историческое время.
Прежде, нежели горы родились, и Ты образовал землю и мир, и во веки вечные (досл.: «от ‘олама до ‘олама». - И. Т.)
Ты – Бог…
Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел (Пс. 90[89]:2[3], 4[5]).
Выявляя свою относительную имманентность миру, Господь «проявляется не в космическом Времени (подобно богам других религий), а во Времени историческом , необратимом. <...> Деяния Господа - это Его Личные шаги в Истории: они открывают свой глубокий смысл лишь Его народу , тому народу, что был избран Господом. Историческое событие приобретает при этом новое звучание: оно становится Теофанией ».20 Потому-то «библейское время не преходящее; оно представляет абсолютную ценность».21 Мир же Священного Писания, по словам Э. Ауэрбаха, «не только претендует на историческое бытие – Писание заявляет, что его мир – единственно истинный, единственно признанный господствовать над всем сущим. И любая иная сцена действия, любая другая традиция и любой другой жизненный порядок не вправе выступать самостоятельно, независимо от библейского мира; и есть Обетование, Божественная воля, что все они, иные порядки и вся история всех людей включатся в рамки этой библейской истории и склонятся перед нею. <...> Мы должны включить (в мир Священного Писания. - И. Т. ) нашу действительность и нашу собственную жизнь, должны почувствовать себя кирпичиками всемирно-исторического здания, им возведенного».22
Библейская концепция мира-« ʽолама », т. е. по преимуществу мирового времени, в целом принципиально отлична от древнегреческого представления о мире- космосе , который мыслился эллинами как некая неизменная упорядоченно-симметричная структура, покоящаяся в пространстве; так что в определенном смысле космос и есть само пространство, вместилище вещей.23 Как замечает С. С. Аверинцев,24 древний еврей мыслит временн ы ми категориями, для него содержание мира главным образом выступает как движение во времени; древний же грек мыслит по преимуществу пространственными категориями, его мир главным образом пространственнен, а бытие – это существование в определенном месте космоса: «Греческий мир – это “космос”, по изначальному смыслу слова такой “наряд”, который есть “ряд” и “порядок”; иначе говоря, законосообразная и симметричная пространственная структура».25 То есть этот термин стал выражать «идею эстетической организации несвязанных элементов».26
В противоположность древнегреческому мировоззрению, в котором время воспринималось как дополнительная и второстепенная характеристика по отношению к целостной пространственной структуре Космоса, в древнееврейском мировоззрении земной мир рассматривался исключительно в рамках акта Творения, как постепенно раскрывающий свое многообразие во времени и в движении к своему концу.
Пространство выступает для человека как чужая и опасная среда, в противоположность этому время интимно связано с человеческой сущностью, это обусловило антропоцентризм иудейского мировоззрения. Его парадоксальность заключается в том, что «Библия антропоцентрична не вопреки, но именно в силу своей теоцентричности. Отсечены спекулятивные попытки увидеть все какими-то иными глазами, чем человеческие, выйти за пределы человеческой меры… Между тем мифологическое сознание искало прежде всего такого выхода. Естественно, в Торе, говорящей, как известно, “на языке людей”, не может вовсе не быть космических образов, без кото- рых не обходится ни язык поэзии, ни язык повседневного общения; но их функция каждый раз не космологическая».27 Пятикнижие начинается с описания деятельности Творца мироздания и человека – в человеческих же измерениях, духовных и пространственно-временных. В этом подходе, как представляется, проявлялось и «иудейское гениальное чувствование Natura naturans»28 (т. е. «Природы порождающей», как Спиноза обозначает творческую активность Бога).
Базовой, первичной формы времени оказывается жизнь отдельного человека в той ее цельности, которую представляет память. Это убеждение ярко выражено в историях известнейших героев Еврейской Библии, прежде всего в истории Иова и Авраама. Недаром, они неизменно привлекали внимание европейских мыслителей, которые угадывали в них что-то принципиально важное для понимания смысла человеческого бытия. История Иова находит себе естественную параллель в истории Эдипа. Здесь ясно выступает отмеченная противоположность двух мировоззрений. Эдип обречен с самого начала своей истории и не избежит трагического финала, известного заранее; развертывание его истории во времени имеет значение только для него самого, для зрителя история важна как целое, она заранее определена в своем смысле. Недаром наиболее точной метафорой, выражающей смысл истории Эдипа является «мышеловка»: для мыши, бегущей по лабиринту он непредсказуемо разворачивается во времени, для внешнего же наблюдателя лабиринт (мышеловка) дан сразу, во всей своей пространственной структуре, и судьба бегущей мыши задана в начале пути. Очень характерно, что в мифе об Эдипе главные действия, которые фатально определяют его жизнь, даны как перемещения из одного города в другой, из Фив в Коринф и обратно, жизнь замыкается в круг и именно через эту структурную целостность получает свой смысл, ее конкретное временное развертывание имеет гораздо меньшее значение.
Совсем по-другому выстроена история Иова. Здесь именно его прожитая праведная жизнь выступает причиной того испытания, которому он подвергается. Само испытание носит внутренний характер, это проверка твердости его отношения к себе и к Богу. Иов готов принять, всё, что приносит ему жизнь: как радости, так и трагедии; он остается неизменным как личность, в своей внутренней духовой сущности, его не сломят никакие испытания, он принимает их как часть своей жизни, как часть развертывающегося во времени целого, которое важнее, чем любая его деталь. И его духовная стойкость, определенная этим целым, оказывается сильнее всех перипетий судьбы, единство с Богом делает его волю сильнее всех испытаний и всех законов.
Древнегреческая культура и древнееврейская религиозность стали двумя важнейшими слагаемыми европейской цивилизации. Хотя они были, конечно, существенно трансформированы, при вхождении в европейскую традицию, они привнесли в нее свои главные характеристики.
Греческая культура во многом обусловила рационализм европейской цивилизации, который во много происходит из представления о пространственно определенном и закономерном целом мира, который мы должны и можем полностью освоить в конечном наборе познавательных актов. Ведь рациональное познание основано на аналитическом методе, а суть последнего – в разложении любого сложного целого на независимые элементы и познание этих элементов как путь к познанию целого. Такое разложение естественно для пространственного целого, и оно возможно там, где есть пространство. По убеждению нашего обыденного сознания, пространство универсально и, значит, универсально рациональное познание. Но это убеждение на деле является ложным, оно происходит именно из настроенности нашего сознания на пространственные представления, а эта настроенность была порождена греческим мировоззрением, как важнейшим слагаемым европейской культуры. Критики рационализма во все времена обращали внимание на то, что человеческий дух, глубокая сущность человека не поддается рациональному постижению, и это прямо связано с тем, что она не имеет пространственной формы и не может быть представлена в пространстве – даже в идеальном и воображаемом пространстве, которое научное познание склонно навязывать объектам, не поддающимся его аналитическому методу.
Древнееврейская религиозность, войдя в качестве основания в европейское христианское мировоззрение, обусловила убеждение в историчности всего существующего и иррациональное переживание жизни в ее временном становлении как важнейшей религиозной ценности. Может показаться, что между этим слагаемым европейского сознания и тем, которое привнесли в него греки, нет противоречия, ведь время для научного сознания было не менее важной характеристикой, чем пространство, и оно не менее эффективно осваивалось наукой в специально разработанных рациональных формах. Однако тот факт, что наука всегда была склонна приравнивать время к пространству и использовать для его описания те же формы, что и для пространства (эта тенденция получила окончательное выражение в математической структуре пространства Минковского, в котором время оказывается просто одним из измерений), показывает, что время здесь берется в какой-то вторичной, несобственной форме, и его жизненное, экзистенциальное содержание исчезает. Мыслители европейской философии, критиковавшие науку за ее чрезмерный рационализм, указывали именно на живое время, присущее человеческой личности, как на ту важнейшую характеристику бытия, которую наука не способна отразить в своих формах и поэтому не способна сколько-нибудь адекватно понять. Это настоящее время понималось как чуждое пространству, несовместимое с ним.
В результате, в своей глубинной сущности указанные две полярные формы отношения человека к миру и к себе с трудом могут быть приведены в гармонию, скорее нужно говорить об их противостоянии и борьбе в европейской культуре. Их равное существенное значение для развития европейского сознания было замечено в русской философии. Сначала об этом лаконично высказался Вл. Соловьев: «Двумя путями – пророческим вдохновением у евреев и философскою мыслию у греков – человеческий дух подошел к идее Царства Божия и к идеалу Богочеловека».29 Соловьев обращает внимание не на противоположность двух культурных импульсов, а на их сходство в поисках абсолютного основания всего существующего. Соловьев словно бы не замечает, насколько различными результаты были получены на этих двух путях: греческая философия нашла в качестве высшей инстанции бытия Нус, Мировой Разум, т. е. систему неизменных законов, управляющих мирозданием, а еврейские пророки – живого всемогущего Бога, не подчиненного никаким законам. Позже принципиальную противоположность и даже несовместимость этих двух оснований европейской культуры очень ярко описал Лев Шестов. Он правильно увидел исток господства рационализма именно в греческом слагаемом европейской культуры. Впрочем это греческое слагаемое он опознал не в собственно древнегреческой культуре, а в ее более позднем результате – в историческом христианстве, принявшем чуждую ему рациональную форму через восприятие греческой философии.30 Шестов считал, что предельная рационализация христианства в истории происходит из влияния гностицизм, как греческой, рациональной формы религиозности, но это его мнение нужно признать чистым недоразумением, связанным с тем, что в начале ХХ века господствовало абсолютно ложное представление о гностицизме, порожденное тенденциозной церковной критикой. Точно так же и характерная для Шестова «идеализация» библейских пророков как носителей абсолютной веры вряд ли справедлива в полной мере. Разные слагаемые иудейского религиозного учения имели очень разное влияние на христианство и на всю европейскую культуру, как о безусловно позитивной и безусловно важной для европейского сознания можно говорить только об одной, хотя, вероятно, самой древней и самой глубокой черте иудейской религиозности – о религиозном освящении самой человеческой жизни, во всех ее земных страстях и тревогах. Об этом много и ярко писал Розанов, утверждая, что именно в этой черте иудаизм безусловно превосходит «аскетическое» церковное христианство, далеко отошедшее от следования учению самого Иисуса Христа.
Наиболее точно и глубоко противостояние двух разных форм отношения к миру, обозначенных древнегреческой и древнееврейской культурами, описал Анри Бергсон. Эти две тенденции он находит в структуре самого мирового бытия и в структуре нашего сознания, направленного на схватывание, постижение бытия; различие культурных традиций в этом случае получает глубокое метафизическое обоснование. В первой своей большой книге «Опыт о непосредственных данных сознания» Бергсон утверждает, что каждый человек в результате элементарных наблюдений над собой и над окружающим миром может прийти к пониманию радикального различия двух форм бытия: нашей духовной, психической жизни, с одной стороны, и физической реальности, частью которой является наше тело, с другой. Наиболее принципиальным отличием этих двух форм бытия является их отношение к пространству: эта характеристика является определяющей для физической реальности, но духовное бытие несовместимо с ней, любая попытка применить форму пространства (даже абстрактного) к внутренней реальности приводит к ее искажению и разрушению ее внутренней целостности. Собственно говоря, целостность и единство – это главные определения внутреннего, духовного бытия, в то время как главное определение материального, физического бытия – это разделенность на обособленные и независимые элементы. Пространство – это и есть та конкретная форма бытия, в которой качество разделения является абсолютно господствующим. Личность человека – это абсолютная целостность, поэтому попытка мыслить ее в форме пространства разрушает ее, лишает самого главного содержания.
Гораздо более сложная ситуация с характеристикой времени. Человек – живое существо, а жизнь – это непредсказуемая динамика, это развитие во времени. Время – важнейшая характеристика человека, его сознания, но время является также характеристикой материального мира, он тоже изменяется, обладает становлением, развитием. Мы склонны отождествлять время, которые мы непосредственно ощущаем в себе, и время материального мира, более того, считаем физическое время исходной его формой, рассматривая внутренне время как субъективную форму этого «настоящего» времени; однако это убеждение является трагическим заблуждением, радикально искажающим наше понимание себя и своего места в мире. Ведь, строго говоря, физическое время – это вообще не время, это такая модель изменения, смены состояний, которая полностью подобна по своей структуре пространству, поскольку здесь смена состояний предстает как их обособление и противопоставление. Настоящее, полноценное время определяет развитие целостного объекта именно как целостного во всех отношениях, поэтому все его состояния должны оставаться в неразрывном единстве во временном процессе. Форма времени должна быть такой, чтобы не противопоставлять отдельные состояния, а выявлять их многообразие, не разрывая их нерасторжимого единства. Такое подлинное время не только мыслиться нами как возможность, оно реально присутствует в нашем внутреннем бытии в форме памяти. Бергсон утверждает даже большее: само наше внутреннее, духовное бытие является исходным, первичным бытием, поскольку является абсолютно единым и обладает качеством целостного развития; бытие материального мира, напротив, не может быть понято как самостоятельное и тем более первичное, единственная непротиворечивая возможность для его понимания – признать его вторичной, производной формой по отношению к целостному духовному бытию. Производный характер физического времени по отношению к памяти как истинному, первичному времени является следствием этого более общего метафизического утверждения по поводу двух форм бытия.
В подтверждение такого соотношения внутреннего и внешнего бытия, противоположного тому, которое кажется очевидным обыденному сознанию, Бергсон рассматривает элементарное механическое движение, например, движение падающей звезды. Хотя каждый из нас говорит о том, что видел всю траекторию звезды, и подразумевает существование этой траектории в самой физической реальности, на деле структура этой реальности такова, что в ней в каждый момент существует только одно положение звезды, остальных же уже нет или еще нет. Траектория звезды существует как целое только в сознании наблюдателя, в его памяти. Этот вывод справедлив для любого механического движения: как целое оно существует только в нашем сознании, точнее во внутреннем целостном бытии, которо- му каждый из нас причастен через свою личную память. Из этого следует, что та реальность, которую описывает своими уравнениями физика и математика вовсе не есть «строго объективная» реальность, не зависящая от человека и не подразумевающая его существование, как полагают сами учение. Физико-математический мир науки возможен как связное целое только при неявно принятом предположении о том, что в его основе лежит бытие некоего всеобщего наблюдателя, т. е. целостное духовное бытие, не обладающее характеристикой пространства, но обеспечивающее одновременное и связное существование всех состояний, следовавших друг за другом в физическом времени. Это представление очень похоже на известную концепцию «мировой души», которая лежала в основе натурфилософии Шеллинга и с помощью которой объяснялось единство всех природных объектов и их целостное развитие. Но если у Шеллинга мировая душа является мистическим и загадочным объектом, в философии Бергсона эта инстанция приобретает вполне тривиальную и знакомую форму: это просто то внутреннее бытие, к которому каждый из нас причастен в своем сознании.
Еще более важный вывод из философии Бергсона следует в отношении мира, данного нам в непосредственном восприятии. Если даже абстрактный мир физико-математических теорий неявно содержит измерение внутреннего бытия, которое явлено в человеческих личностях, то мир нашего непосредственного существования тем более не может быть лишен этого измерения. Бергсон утверждает, что простирающийся перед нами в чувственном восприятии мир есть неразрывное соединение, органический синтез чисто физического, «внешнего» бытия и бытия духовного, внутреннего, причем характеристика пространства отмечает именно «внешнее», «внеличност-ное» бытие, а время в форме памяти и истории обозначает присутствие в нем духовного бытия, т. е. бытия личностного, человеческого, выражающего абсолютное целостное бытие как таковое (т. е. собственно Абсолют).31
Из этих метафизических положений вытекают достаточно важные выводы для понимания культуры и ее развития. Чрезмерный акцент на пространственной характеристике явлений и на физическом времени как простой смене событий (по модели пространства) означает утрату человеком понимания специфики своего особого способа бытия, который связан не с пространством, а с подлинным, связным временем, выражающимся в конкретных формах памяти и истории. Это позволяет увидеть очень важный смысл в той борьбе двух тенденций, о которой шла речь выше. Древнегреческое мировоззрение, выдвигающее на первый план пространственную организацию Космоса и всеобщую рационализацию жизни, оказывается в своем преломлении в европейской культуре негативной тенденцией, обусловившей «забвение» человеком самого себя как живого, длящегося и абсолютного существа, первичного по отношению ко всей пространственной природной реальности. Греки внесли в европейское мировоззрение элемент космоцентризма, господство идеи закономерной природы как высшей формы бытия и высшей ценности, человек при этом понимается как подчиненный элемент природы, эта тенденция получила абсолютное преобладание в эпоху Просвещения и обусловила складывание современной технократической цивилизации, испытывающей всё больший духовный кризис.
Напротив, древнейшая версия иудейского мировоззрения повлияла на европейскую культуру своим ощущением неповторимого своеобразия внутреннего мира личности, ее живого, непрерывного становления, чувством ценности личной и общей истории. К тому, что говорилось выше, можно добавить, что библейский Кохелет (греч. Экклесиаст), неоднократно акцентирующий в своей книге внимание на том, что он постигает мироздание «сердцем», констатирует, что в «сердце» человека Богом вложен ʻōlām (Кох. 3:11). Заметим в данной связи, что в Еврейской Библии, в том числе в литературе премудрости, термин lēḇ / lēḇāḇ, досл. «сердце», объемлет следующий спектр значений и коннотаций: разум, сознание, индивидуальность, носитель самости (libbî, «мое сердце», употребляется в Еврейской Библии как синоним «я»), рефлексии, эмоций и ощущений, связанных с интеллектуальной деятельностью; по сути, данное понятие употребляется преимущественно как синоним духа человека.32 В «сердце» происходит рациональная и когнитивная деятельность, оно обретает и хранит мудрость и знание.33 Иногда понятие «сердце» указывает на высокий уровень развития интеллекта, отсутствующий у «глупцов»,34 – уровень, который потенциально способные к его достижению люди должны стремиться «приобрести».35 Заметим также, что в Еврейской Библии отсутствует термин, прямо коррелирующий с понятием «совесть» (также: «сознание») в древнегреческом (συνείδησις/συνειδός) и латинском (сonscientia) языках, – в библейских текстах «сердце» выступает в качестве внутреннего судии, оценивающего поступки и помыслы личности.36 Согласно Кох. 5:19, «Бог отзывается в радости сердца» делового и трудолюбивого человека, что говорит о наличии у Кохелета воззрения о контактах Бога с человеком через его «сердце». Таким образом, исходя из того, что термин lēḇ в Книге Кохелета имеет по преимуществу коннотации разум (разумный дух), сознание, а термин ʻōlām использовался в древнееврейском языке для обозначения мироздания в его динамике, сущего в его временно́ й и пространственной целостности, понимаемого как ми-розданная вечность, утверждение Кохелета о том, что Бог «вложил» в «сердце» сынов человеческих hā-ʽōlām, т. е. вечность как мир (Кох. 3:11), – «но (так), чтоб человек (все-таки) не мог постигнуть того, что создал Бог, от начала и до конца», может быть интерпретировано в том смысле, что здесь автор выражает идею о стремлении разума познающего мироздание чело-века/человечества охватить все сущее.37 (Заметим, что определенный артикль hā-, поставленный перед существительным ʻōlām в Кох. 3:11, выполняет обобщающе-акцентирующую функцию.) Это удивительно близко к идее Бергсона о том, что подлинную длящуюся сущность мира человек находит в собственном внутреннем мире. В Книге Кохелета – как ни в каком другом библейском произведении – слово lēḇ, «сердце», употребляется именно в значении, очень близком к понятию «сознание»38, кажется возможным допустить и такую интерпретацию фразы Кох. 3:11аβ: «...длительность вложил Он в их (сынов человеческих) сердце», – т. е. не «ощущение / чувство времени», не «отсчет времени» и т. п., а именно «длительность» как основу сознания человека. Таким образом, оказывается, что человек получает возможность постигать мир как длительность благодаря тому, что длительность вложена Богом в основу его сознания.
Вместе с тем человек, постигающий мир, имеет возможность актуализировать «вложенный» Богом в его разум hā-ʽōlām в «вечном» процессе своего постижения постоянно изменяющегося мира – вот «задача, которую дал Бог решать сынам человеческим» ( Кох. 3:10).
Альтернативная возможная интерпретация фразы mib-bǝlî ʼăšer lōʼ в Кох. 3:11b α , нигде более не встречающейся в Библии, радикально переосмысливает эпистемологию автора Книги Кохелета:
...В сердце же людей также и вечность (hā-ʽōlām) Он вложил без чего не (мог бы) постигать (mib-bǝlî ʼăšer lōʼ yimṣāʼ) человек39 того, что создал Бог, – от начала и до конца (sôp̄).
Заметим, что фразу «от начала и до конца» в контексте с термином hā-ʽōlām можно было бы интерпретировать не в когнитивном аспекте, т. е. имея в виду полноту постижения человеком/человечеством мироздания, а в аспекте темпоральном: от сотворения мира и до конца времен ; либо: в течение земной жизни конкретного человека (ср.: Кох . 7:2b α , где термин sôp̄ употреблен в качестве синонима смерти человека).
С учетом того, что одно из значений термина ʽōlām – «длительность» (в том числе вечно длящаяся)40, можно также говорить, что ʽōlām являет собой мироздание как длительность 41.42 Это опять-таки соотносится с идеей Бергсона о длящемся подлинном бытии, открытом человеку только в актах внутренней интуиции. Можно повторить, что древнееврейское мировоззрение показало первую универсальную форму антропоцентризма, от которого идет плодотворная мировоззренческая традиция вплоть до наших дней. Развитие этой традиции дало самые известные и значимые достижения европейской цивилизации – представление о безусловном значении творческой личности и убеждение в высшей ценности культуры как материального выражения живой личности, по своей ценности превосходящей все мироздание. Хотя нужно отметить, что это важное убеждение, свойственное древнееврейскому мировоззрению, претерпело в истории европейской культуры значительный генезис и весьма далеко ушло от своего собственно иудейского истока. Описание этого генезиса представляет собой отдельную сложную задачу, которой мы не будем заниматься.
Сам Бергсон применил свою теорию двух типов бытия для описания истории человечества в своей последней большой книге «Два источника морали и религии». Античную философию в двух ее классических системах, созданных Платоном и Аристотелем, он признал выражением прагматического отношения человека к реальности, того отношения, в котором глав- ным является не познание своей бесконечной духовной сущности, а установление контроля над окружающим миром, полезное действие в этом мире, простирающемся перед нами в пространстве. Наиболее ясно, утверждает Бергсон, эта негативная тенденция греческого прагматизма и рационализма проявляется в философском понятии Бога у Платона и Аристотеля. Бог во всех значимых религиях есть выражение бесконечной сущности человека, в полной противоположности к этому Бог Аристотеля (и Платона) есть своего рода «абсолютизация» ограниченного человеческого бытия, вписанного в структуру Космоса. «Длительность тем самым становится упадком бытия, время – утратой вечности. Вся эта метафизика заключена в аристотелевской концепции божества. Она состоит в обожествлении и общественного труда, подготавливающего возникновение языка, и индивидуального производительного труда, требующего шаблонов или образцов: Идея или Форма – это то, что соответствует этому двойственному труду; Идея Идей или Мысль Мысли оказывается поэтому самим божеством. После такой реконструкции происхождения и значения Бога у Аристотеля можно только удивляться, как современные мыслители, трактуя существование и природу Бога, обременяют себя неразрешимыми проблемами, которые возникают только в том случае, если рассматривать Бога с аристотелевской точки зрения и соглашаться называть этим именем существо, которому люди никогда и не думали молиться».43
Подлинная религия, по Бергсону, есть чистый мистицизм, понимаемый как полное слияние личности с Богом, приводящее к снятию всех границ в человеческом бытии и «раскрытию» личности в бесконечное и абсолютное бытие Бога. Высшим примером мистика Бергсон называет евангельского Иисуса Христа, которого, именно как мистика, он противопоставляет историческому, церковному христианству. Истоки истинной религии, сформировавшейся в форме христианского мистицизма, Бергсон полагает в древнейших формах религиозного сознания человечества, но одним из важнейших импульсов к ее окончательному становлению называет иудейский профетизм44: «...мы не решаемся отнести еврейских пророков к мистикам древности: Яхве был слишком строгим судьей, между Израилем и его Богом не было достаточно близости для того, чтобы иудаизм был мистицизмом в том виде, как мы его определяем. И тем не менее ни одно течение мысли или чувства не способствовало в такой степени, как еврейский про- фетизм, созданию мистицизма, который мы называем полным, того, который был присущ христианским мистикам. Причина этого в том, что, если другие течения и вели некоторые души к созерцательному мистицизму (un mysticisme contemplatif) и тем самым заслужили того, чтобы считаться мистическими, они завершались чистым созерцанием. Чтобы преодолеть расстояние, разделявшее мысль и действие, необходим был порыв (un élan), которого недоставало. Мы находим этот порыв у пророков: они страстно стремились к справедливости, они требовали ее именем Бога Израиля; и христианство, которое явилось продолжением иудаизма, в значительной мере обязано еврейским пророкам тем, что обладает мистицизмом действующим (un mysticisme agissant), способным идти на завоевание мира».45
Бергсон имеет в виду, что в библейских книгах нравственность является кардинальной составной частью религиозной жизни человека и его мироощущения, важнейшей составляющей его взаимоотношений с Богом, выражением соблюдения им воли Божьей. В конечном счете праведный образ жизни, этическое поведение, оказываются важнейшими аспектами служения Богу,46 что сделало иудаизм первой в истории этической религией.
С другой стороны, нравственность тесно коррелирует в иудаизме с муд-ростью.47 Начало мудрости – это благоговение перед Творцом и почитание Его, стремление к Его познанию, верность Завету с Ним (см., напр.: Пс. 111[110]:10; Притч. 1:9, 9:10; Эккл. 12:13–14). Важнейший аспект мудрости заключен в том, что Божественную Тору (tôrāh; букв.: «Научение»/«Учение»; «Наставление», resp. «Закон») следует не только изучать48, но и актуализировать ее исполнением. В выполнении установлений Завета с Богом – эти- ческих по своей сути – библейский человек видит истинный смысл своей жизни. Поэтому, хотя дни человека – как трава, как цвет полевой, так он цветет, – пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его, но милость Господа – от вечности и до вечности (mē-‘ôlām wǝ-‘aḏ-‘ôlām) к боящимся49 Его, и правда Его – для сыновей сынов, хранящих Завет Его и помнящих установления Его, чтобы исполнять их (Пс. 103[102]:15–18).
Для еврейского мудреца истина заключена в «стремлении», «поиске», «любви» к «правде» («праведности»)/«справедливости» ( ṣeḏeq/ṣǝḏāqāh ): правде, являющейся основой мирового устройства, но истолковываемой им именно в человеческом ее измерении, справедливости – выражающейся в общественных отношениях. Высшее знание мудрец обретает, находясь и действуя «внутри жизненной ситуации»,50 – в отличие от греческого мыслителя, созерцающего, умопостигающего мир как бы «извне». Древнееврейский мудрец обретает знание по преимуществу не в ходе понятийнологического осмысления бытия и тем более философского дискурса – библейские истины часто оказываются результатом медитативноинтуитивного постижения, иррационального, «непосредственного» обретения знания и понимания сути процессов; любящий премудрость подчас оказывается пребывающим в состоянии, когда непознанное как бы «случа-ется»51 для него. Он постигает мир не «дискурсивным интеллектом, который движется во времени»52, «удерживая только мгновения»53, но альтернативным интеллекту способом мышления, дающим непосредственное и целостное знание, – интуицией, которая «распространяется на самое длитель-ность»54 (в отличие от интеллектуального дискурса, который оказывается как бы «пространством», в котором развертывается идея, обретенная через интуицию непосредственно и сразу). Именно такой путь познания, согласно А. Бергсону, и способен поддерживать истинную «творческую эволюцию».
Тот «порыв», о котором в приведенной выше цитате говорит Бергсон, – это живая энергия конкретной личности, стремящейся, несмотря ни на ка- кие трудности и испытания оставаться собой, а в ситуации трагического решения взывающей к справедливости и добивающейся ее – даже от всемогущего Бога! Именно эта черта мировоззрения древних евреев в гораздо больше степени, чем другие иудейские религиозные концепты, повлияла на европейское сознание и составила его важнейшее достояние, обусловившее величайшие достижения европейской цивилизации.
Список литературы Живая личность против законов космоса: древнееврейское и древнегреческое слагаемые европейского мировоззрения
- Аверинцев, С. С. (1971) «Греческая “литература” и ближневосточная “словесность”. (Противостояние и встреча двух творческих принципов)», Типология и взаи- мосвязь литератур древнего мира, отв. ред. П. А. Гринцер. Москва: Наука, 206–266.
- Аверинцев, С. С. (1983) «Древнееврейская литература», Классическая литература Древнего мира. Москва: Наука, 271–302.
- Аверинцев, С.С. (2001) «Аггада в учительном контексте», Вавилонский Талмуд. Ан- тология Аггады с толкованиями раввина А. Эвен-Исраэля (Штейнзальца), т. 1. Иерусалим; Москва: Институт иудаики СНГ.
- Аверинцев, С. С. (2004) «Порядок космоса и порядок истории», Поэтика ранневи- зантийской литературы. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 89–114.
- Ауэрбах, Э. (1976) Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Москва: Прогресс.
- Афанасьева, В. К. (1997) От начала начал. Антология шумерской поэзии. Санкт- Петербург: Петербургское востоковедение.
- Бергсон, А. (1994) Два источника морали и религии. Москва: Канон.
- Бычков, В. В. (1981) Эстетика поздней античности. Москва: Наука.
- Гуревич, А. Я. (1972) Категории средневековой культуры. Москва: Искусство.
- Дьяконов, И. М. (1992) «Праотец Адам», Восток-Oriens 1, 51–55.
- Евлампиев, И. И. (2017) «О возможном влиянии еврейских религиозных представ- лений на философию Анри Бергсона», Judaica Petropolitana 7, 135–145.
- Евлампиев, И. И., Матвеева И. Ю. (2018) «Метафизический статус памяти в “филосо- фии жизни” Льва Толстого и Анри Бергсона», Вопросы философии 12, 141–151.
- Соловьев, В. С. (1986) Оправдание добра. Сочинения. Москва: Мысль.
- Тантлевский, И. Р. (2015) «Адам-несмертный, смертный и бессмертный в библей- ских антропогонических учениях», Вопросы философии 6, 141–153.
- Тантлевский, И. Р. (2018б) «Мироздание в душе человека: Аристотель. De anima III, 8, 431b.20–24 и Экклесиаст 3:10–11», ΣΧΟΛΗ (Schole) 12.1, 86–89.
- Тантлевский, И. Р. (2018a) «”Как прийти к правильному решению?” К интерпрета- ции эпистемологического определения метода сравнения у Аристотеля (Ethica Eudemia, VIII, 1245b.13–14) и Экклесиаста (Эккл. 7:27)», ΣΧΟΛΗ (Schole) 12.1, 72–85.
- Тантлевский, И. Р. (2018) Очерки по философии Спинозы. Санкт-Петербург: Изда- тельство РХГА.
- Тантлевский, И. Р. (2020) «К вопросу об интерпретации Кох 3:10–11», Вопросы тео- логии 2.1, 5–16.
- Шестов, Л. (2002) «Умозрение и Апокалипсис. Религиозная философия Вл. Соловь- ева», Вл. Соловьев: pro et contra, т. 2. Санкт-Петербург: Изд-во РХГА, 467–530.
- Шифман, И. Ш. (1999) «Древняя Финикия. Мифология и история», Финикийская мифология. Санкт-Петербург: Летний Сад.
- Шифман, И. Ш. (2007) Ветхий Завет и его мир. Санкт-Петербург.: Издательство СПбГУ.
- Элиаде, М. (1994) Священное и мирское. Москва: Издательство МГУ.
- Якобсен, Т. (1995) Сокровища тьмы. История месопотамской религии, отв. ред. И. М. Дьяконов. Москва: Восточная литература.
- Auerbach, E. (1959) Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 2. Aufl. Bern: Francke.
- Bergson, H. (1908) L’Évolution créatrice. Paris: Félix Alcan.
- Bergson, H. (1932) Les Deux Sources de la morale et de la religion. Paris: Félix Alcan.
- Brin G. (2001) The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls. Leiden; Boston; Cologne: Brill.
- Clines, J.A. (2011) The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Academic Press / Sheffield Phoenix Press, vol. VI.
- Eliade, M. (1965) Le sacré et le profane. Paris: Gallimard.
- Gerleman, G. (1979) “Die sperrende Grenze: Die Wurzel ‘lm im Hebräischen”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft XCI, 338–349.
- Hude, H. (1990) “Les Cours de Bergson”, Bergson. Naissance d’une philosophie, Actes du colloque de Clermon-Ferrand 17 et 18 novembre 1989. Paris: Presses Universitaires de France, 23–42.
- Jacobsen, T. (1976) The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion, New Haven; London: Yale University Press.
- Jeremias, A. (1930) Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 4 Aufl., Leipzig: J.C. Hinrichs.
- Martins de Jesus, C.A. (2012) “Kosmos and its derivatives in the Plutarchan works on lo- ve”, Nomos, Kosmos & Dike in Plutarch, Ed. José Ribeiro Ferreira, Delfim F. Leão & Carlos A. Martins de Jesus. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, 87–100.
- Mazzinghi, L. (2000) “Il mistero del tempo: sul termine ‘olam in Qo 3,11”, Initium sapientiae: Scritti in onore de Franco Festorazzi nel suo 70 compleanno. Ed. R. Fabris. Bologna, 2000. P. 147–161.
- Tantlevskij, I. R., Svetlov, R. V. (2014) “Predestination and Essenism”, ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.1, 50–53.
- Tantlevskij, I. R. (2017) “Possible Parallels in Ecclesiastes’ and Aristotle’s Reflections Concerning the Eternity and Immortality of the Soul in Correlation with Its Intellectual and Ethical Merits, ΣΧΟΛΗ (Schole) 11.1, 133–143.