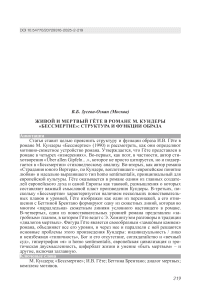Живой и мертвый Гёте в романе М. Кундеры «Бессмертие»: структура и функции образа
Автор: Зусева Озкан В.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья ставит целью прояснить структуру и функции образа И.В. Гёте в романе М. Кундеры «Бессмертие» (1990) и рассмотреть, как они определяют мотивно сюжетное устройство романа. Утверждается, что Гёте представлен в романе в четырех «измерениях». Во первых, как поэт, в частности, автор стихотворения «Über allen Gipfeln…», которое не просто цитируется, но и подвергается в «Бессмертии» стиховедческому анализу. Во вторых, как автор романа «Страдания юного Вертера», по Кундере, воплотившего «европейское понятие любви» и идеально выразившего тип homo sentimentalis, принципиальный для европейской культуры. Гёте оказывается в романе одним из главных создателей европейского духа и самой Европы как таковой, размышления о которых составляют важный смысловой пласт произведения Кундеры. В третьих, поскольку «Бессмертие» характеризуется наличием нескольких повествовательных планов и уровней, Гёте изображен как один из персонажей, а его отношения с Беттиной Брентано формируют одну из сюжетных линий, которая во многом «параллельна» сюжетным линиям условного настоящего в романе. В-четвертых, один из повествовательных уровней романа представлен «загробным» планом, в котором Гёте ведет с Э. Хемингуэем разговоры в традиции «диалогов мертвых». Фигура Гёте является своеобразным «замкóвым камнем» романа, объединяет все его уровни, и через нее и параллели с ней решаются основные проблемы этого произведения Кундеры: индивидуальность / лицо и неизбежная «типичность», Бог и его отсутствие, соглядатайство и «вечный суд», гипертрофия «я» и homo sentimentalis, европейская цивилизация и эротическая двусмысленность, циферблат жизни и умение «быть мертвым» - и другие, включая заглавную.
М. кундера, «бессмертие», и.в. гёте, беттина брентано, диалог мертвых, комплекс мотивов
Короткий адрес: https://sciup.org/149148614
IDR: 149148614 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-219
Текст научной статьи Живой и мертвый Гёте в романе М. Кундеры «Бессмертие»: структура и функции образа
Milan Kundera; “Immortality”; Goethe; Bettina Brentano; dialogue of the dead; motive-plot structure.
Роман М. Кундеры «Бессмертие» (1990), будучи метароманом, т. е. романом, повествующим не только о героях и их судьбах, но и о процессе собственного становления, характеризуется, как свойственно этому жанру [Зусе-ва-Озкан 2014, 15–41, 398–425], повышенной мерой литературности: здесь и рассуждения нарратора, спроецированного на образ биографического автора (в частности, повествователю приписан роман реального Кундеры «Жизнь не здесь»), об особенностях поэтики и законах литературы (например, отступление о понятии «эпизода» в «Поэтике» Аристотеля), и использование терминов литературного метатекста, и, конечно, многочисленные отсылки к различным произведениям мировой литературы и их авторам, среди которых Л. Арагон, П. Элюар, А. Рембо, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Э. Хемингуэй. Но главным центром притяжения в романе является фигура Иоганна Вольфганга Гёте, которая предстает в нескольких планах и проекциях.
Во-первых, Гёте выступает как поэт, в частности автор стихотворения «Über allen Gipfeln…», которое не просто цитируется, но и подвергается стиховедческому анализу в «Бессмертии». Во-вторых, как автор романа «Страдания юного Вертера», по Кундере, воплотившего «европейское понятие любви» и идеально выразившего тип homo sentimentalis, принципиальный для европейской культуры. Гёте предстает здесь одним из главных создателей европейского духа и Европы как таковой, размышления о которых составляют важный смысловой пласт романа Кундеры. В-третьих, поскольку «Бессмертие» характеризуется наличием нескольких повествовательных планов и уровней, Гёте изображен как один из персонажей, а его отношения с Беттиной Брентано формируют одну из сюжетных линий, которая во многом «параллельна» сюжетным линиям условного настоящего в романе. В-четвертых, один из повествовательных уровней романа представлен «загробным» планом, где Гёте ведет с Э. Хемингуэем разговоры в традиции «диалогов мертвых» и упоминает творимый над ним «вечный суд». Таким образом, к Гёте фактически стягиваются основные мотивы «Бессмертия»; его фигура является своеобразным «замкóвым камнем» романа.
Цель данной статьи – прояснить структуру и функции образа Гёте в «Бессмертии» и рассмотреть, как они определяют мотивно-сюжетное устройство романа. Хотя отечественные литературоведы в последние годы и затрагивали этот роман Кундеры [Ишимбаева 2017; 2019; Шервашидзе 2019; Янина, Толкачева 2023], систематически его «гётевский текст» не изучался (наиболее близко к такому систематическому описанию подходит С.А. Шерлаимова, но и в ее монографии [Шерлаимова 2014, 126–152] это лишь один из аспектов анализа). Среди зарубежных публикаций последних лет назовем статьи П. Рьяндо, который фокусируется на проблематичности биографического жанра (обсуждая то, какие элементы биографии Гёте оказываются важны для Кундеры [Рьян-до 2013]), и М. Фрайзе, рассматривающего «Бессмертие» как культурологическое «исследование» [Фрайзе 2022]. Мы же сконцентрируем свои усилия на выявлении того, как «гётевский текст» «Бессмертия» соотносится с автомета-рефлексивной природой романного целого.
Впервые Гёте упоминается в подглавке 6-й части первой «Лицо», где приводится полный текст стихотворения «Über allen Gipfeln…»: его декламирует для Аньес, героини романа, ее отец, немец по происхождению. Нарратор, которого мы будем далее называть Автором (он присутствует в романе в качестве не только организатора повествования, но и одного из персонажей), делает его стиховедческий разбор: «У каждой строки – разное число слогов, здесь чередуются трохей, ямб, дактиль, шестая строка, на удивление, длиннее остальных, и, хотя речь идет о двух четверостишиях, первая грамматическая фраза асимметрически кончается в пятой строке, что создает мелодию, никогда и нигде доселе не существовавшую, кроме как в этом единственном стихотворении, столь же прекрасном, сколь и совершенно простом» [Кундера 2005, 34]. С голосом отца Аньес сливается голос Автора (это не единственный пример приписывания Автором своих мыслей героям), а стихотворение Гёте – с мотивом смерти как покоя и как возможности убежать, скрыться от уродства мира и его какофонии (лейтмотив романа), спрятать свое «лицо» от мира. Убежищем постепенно становятся для Аньес леса Швейцарии («Швейцария: пение птиц в верхушках дерев» [Кундера 2005, 36] – прямо по Гёте), в которую она мечтает переехать, оставив мужа и дочь, как некогда мечтал ее отец, тоже желавший скрыться и от жены, и от второй дочери, но так и не решившийся это сделать. Аньес ближе к финалу романа погибнет в аварии, возвращаясь из Швейцарии в Париж; незадолго до смерти она вспомнит умершего отца, который тоже стремился «ускользнуть» от людей, и внезапно поймет, что «отец был ее единственной любовью» [Кундера 2005, 273]. Умирая, она уходит к нему, и ее муж Поль видит на лице мертвой Аньес «незнакомую улыбку» [Кундера 2005, 292]. При этом швейцарский лес, с образом которого сопрягается образ леса в стихотворении Гёте, предстает как сердце Европы, что в очередной раз связывает Гёте с темой европейца par excellence: «Когда-то друзья показывали ей из машины природу Америки. <…> Тишина этих лесов казалась ей столь же враждебной и чуждой, как шум Нью-Йорка. В лесу, который любит Аньес, дороги разветвляются на проселки и на совсем маленькие тропки; по тропам ходят лесники. На дорогах – скамейки, с которых можно обозревать окрестности, где пасутся стада овец и коров. Это Европа, это сердце Европы, это Альпы» [Кундера 2005, 244].
Вторая часть романа, названная так же, как роман в целом, – «Бессмертие», открывается эпизодом из жизни Гёте, т. е. он предстает как один из персонажей. Эпизод четко датирован Кундерой – это 13 сентября 1811 г., когда жена Гёте Христиана сбросила с Беттины фон Арним, урожденной Брентано, очки (ситуация, повторенная конфликтом Аньес и ее сестры Лоры, причем роль Гёте исполняет муж Аньес Поль), а Беттина объявила в веймарских салонах, что эта «толстая колбаса взбесилась и искусала ее». «Изречение переходит из уст в уста, и весь Веймар хватается за животики. Это бессмертное изречение, этот бессмертный смех слышны и поныне» [Кундера 2005, 57]. Вся эта часть романа напрямую – т. е. от лица нарратора-Автора, в эссеистическом духе – рефлексирует заглавную тему бессмертия через историю отношений Гёте с Беттиной Брентано, автором знаменитой книги «Переписка Гёте с ребенком», которой так восхищались европейские авторы: Кундера перечисляет среди них Райнера Марию Рильке, Ромена Роллана, Поля Элюара, – забывая, кстати, о Марине Цветаевой, для которой «Беттина становится воплощением универсальных <…> максим искусства» [Корниенко 2014, 101] и собственным двойником, наделенным, как и она, «безмерностью в мире мер».
Кундера деконструирует историю Гёте и Беттины, снимая с нее романти-чески-сентиментальный флер и понимая ее в духе, обратном представлениям названных им великих. По Кундере, «история их любви стала столь знаменитой» «потому, что с самого начала речь шла не о любви, а кое о чем другом»: «То, о чем шла между ними речь, была не любовь. То было бессмертие» [Кун-дера 2005, 70, 72], понимаемое как бессмертие историческое – в памяти культуры. Кундера различает великое бессмертие, т. е. память человечества, которой и жаждут Гёте (до определенного этапа) и Беттина, и бессмертие малое, т. е. память близких; и то, и другое относится к сознанию других людей. Но есть ли бессмертие личное, онтологическое? Таков один из принципиальных вопросов романа, на который дается, как мы увидим, скорее, отрицательный ответ – в частности, в диалогах мертвых Гёте и Хемингуэя.
Вся вторая часть романа Кундеры посвящена истории Гёте и Беттины сквозь призму центральной темы «бессмертия»: о нем, т. е. о своей славе в глазах потомков, заботится как Гёте вплоть до почтенного возраста (с этой интенцией, по мнению нарратора-Автора, им создаются и книга «Из моей жизни. Поэзия и правда», и «Разговоры с Эккерманом»), так и Беттина «с ранней юности». Подчеркивая разницу лет между теми, кто в истории культуры останется великими возлюбленными, Автор пишет: «<…> ей вовсе не мешал почти беззубый рот Гёте. Напротив, чем он был старше, тем был привлекательнее, ибо чем ближе был к смерти, тем ближе был к бессмертию. Лишь мертвый Гёте способен будет взять ее за руку и повести к Храму Славы. Чем ближе он был к смерти, тем меньше она готова была от него отказаться» [Кундера 2005, 76]. Нарратор вскрывает механизмы, посредством которых Беттина добивается своей цели. Он подчеркивает и редкость ее встреч с Гёте, и его осторожные и неохотные ответы в письмах, и разрыв отношений после того, как Гёте встает на сторону Христианы в «истории с очками», и то, как Беттина редактирует – фальсифицирует, как бы хочет сказать Автор, – свою переписку с Гёте перед ее публикацией, а главное, описывает особую позу, которую принимает Беттина – чрезвычайно выгодную позу «ребенка»: «<…> ребенок может позволить себе что захочет, ибо он невинен и неопытен; ему необязательно придерживаться правил приличия, он ведь еще не вступил в мир, где властвует форма; он имеет право проявлять свои чувства без учета того, удобно это или нет» [Кундера 2005, 69]. Эта поза разоблачается как «агрессивная бестактность» [Кунде-ра 2005, 78], которую Гёте лишь постепенно понимает и вопреки которой он спустя тринадцать лет после «истории с очками» проливает сентиментальную слезу (опять вступает мотив homo sentimentalis и ложной, вредной, в конечном счете глубоко эгоцентрической чувствительности) над предложенным ею проектом памятнику ему самому:
Гёте сидел в позе античного героя, в руке держал лиру, между его колен стояла девушка, представляющая собой Психею; а волосы его походили на языки пламени. Рисунок она послала Гёте, и тут произошло нечто совершенно невообразимое: на глаза Гёте навернулась слеза! <…> Своим рисунком Беттина впервые недвусмысленно обозначила то, что с самого начала содержалось в игре: бессмертие. <…> Поначалу он был лишь глупо польщен, но постепенно (когда уже утер слезу) стал постигать истинный (и менее лестный) смысл Беттинино-го послания: она дает ему знать, что <…> она не отступила; что это она сошьет ему торжественный саван, в котором он предстанет перед потомством; что он ничем не будет препятствовать ей в том <…> Гёте во время их встречи мысленно говорил ей: <…> В своей прискорбной дряхлости я позволил себе растрогаться, увидев свои волосы, уподобленные пламени (ах, мои жалкие, поредевшие волосы!), но тут же следом уяснил себе: то, что ты хотела явить мне, был не эскиз, а пистолет, который ты держишь в руке, чтобы стрелять в дальние просторы моего бессмертия [Кундера 2005, 78–80].
«Пакт» между Гёте и Беттиной вроде бы предельно ясен для обоих, но совсем уже дряхлый Гёте перестает заботиться о своем бессмертии и нарушает его, называя Беттину в письме к великому герцогу Веймарскому «докучливым слепнем», за что его будут осуждать многие и многие поколения. Здесь вступает другой лейтмотив романа Кундеры – «циферблата жизни», которому будет посвящена вся шестая глава «Бессмертия». Если в первой части жизни человек вовсе не думает о смерти, а во второй, задумываясь о ней, начинает «горячо радеть» о своем бессмертии, то в третьей, когда он чувствует беспредельную усталость, у него не остается ни сил, ни желания думать о бессмертии, оно даже «тревожит» его – и он перестает его хотеть: «Я думаю о той минуте, когда Гёте писал слова “докучливый слепень”. Я думаю об удовольствии, которое он при этом испытывал, и представляю себе, что он вдруг тогда осознал: он никогда в жизни не поступал так, как ему хотелось. Он считал себя правителем своего бессмертия, и эта ответственность сковывала его, делала его чопор- ным. <…> Слова “докучливый слепень” не вязались ни с его творениями, ни с его жизнью, ни с его бессмертием. В этих словах была чистейшая свобода. Их мог написать только человек, оказавшийся уже в третьем периоде своей жизни, когда перестаешь управлять своим бессмертием и считать его делом серьезным. Не всякий доходит до этой крайней черты, но тот, кто доходит, знает, что только там – истинная свобода» [Кундера 2005, 83]. Таким образом, Гёте у Кундеры достигает истинной свободы уже при жизни, а к концу романа обретет ее и за смертной чертой.
Кундера говорит о «великой Гётевой середине» – в разных отношениях, в том числе как о винкельмановском по сути идеале «улыбчивой умеренности», который Гёте «некогда отождествлял с красотой» и которому старался соответствовать. Когда Гёте разрушает этот идеал словами о «докучливом слепне» Беттине, он одновременно срывает путы, наложенные на него им самим, своей эстетикой и своей тягой к славному бессмертию, и обретает в исторической памяти отчасти «смешное» бессмертие, уготованное ему оскорбленной Беттиной: «Ее книга была великолепной данью почтения к Гёте. Все ее письма были не чем иным, как единой песнью любви к нему. Да, но поскольку все знали про очки, сброшенные с нее госпожой Гёте на пол, и о том, что Гёте тогда позорно предал любящее дитя в угоду “бешеной колбасе”, эта книга одновременно (и куда более) являет собой урок любви, преподанный покойному поэту, который перед лицом великого чувства повел себя как трусливый филистер и пожертвовал страстью ради убогого семейного покоя. Книга Беттины была одновременно и данью почтения, и оплеухой» [Кундера 2005, 87]. Этот эффект поддерживается и переданным Беттиной анекдотом о том, как при встрече с французской императрицей Марией-Луизой на аллее Гёте уступил ей дорогу и снял шляпу, а шедший рядом с ним Бетховен – нет: «И вдруг все прояснилось: если Гёте и предпочел “колбасу” великой любви, то это было явно не случайно: в то время как Бетховен – бунтарь, идущий вперед, низко надвинув на лоб шляпу и заложив руки за спину, Гёте – прислужник, униженно кланяющийся на обочине аллеи» [Кундера 2005, 89]. Тем не менее, для тех, кого нарратор числит в собственном «лагере», как, например, композитора Яначека, всё напыщенное и «величественное» кажется смешнее, чем отсутствие позы, и Бетховен, соответственно, предстает смешнее Гёте.
В этой же части романа впервые появляются «загробные» сцены, или диалоги мертвых Гёте и Хемингуэя, написанные в традиции жанра, изначально созданного Лукианом Самосатским, но особенно процветавшего в век Просвещения [Andries 2013; Correard 2011; Egilsrud 1934; Eissen 2007]. Почему, собственно, Гёте говорит именно с Хемингуэем? В рамках жанровой традиции, в частности, в «Новых диалогах мертвых» (1683) Б. де Фонтенеля или «Диалогах мертвых, сочиненных для воспитания господина герцога Бургундского» (1692–1696) Ф. де Салиньяка де Ла Мот Фенелона в Элизиуме нередко встречались и беседовали исторические фигуры, которые при жизни никак не соприкасались и принадлежали разным эпохам, но разговор которых обещал некоторые особенно блестящие философские парадоксы. Кстати, в книге Фонтенеля содержится разговор римлянки Лукреции и Барбары Бломберг (XVI в.), в котором тоже обсуждается бессмертие как посмертная слава:
Барбара Бломберг. <…> Признак великой души – презирать эту химеру славы, не так ли?
Лукреция. <…> Эта химера относится к тому, что есть наиболее могущественного в мире. Она душа всего, ее предпочитают всему, и вы видите, как заселяет она Елисейские поля; слава привела сюда больше людей, чем горячка. Я из числа тех, кого она сюда привела, так что я могу об этом говорить.
Барбара Бломберг. Так, значит, и вы были обмануты, как и другие, кто умер от этой болезни; ведь с момента, как вы оказываетесь здесь внизу, любая слава, которую только можно вообразить, не принесет вам никакого блага.
Лукреция. Это один из секретов того места, где мы находимся; не нужно, чтобы об этом знали живущие [Fontenelle 1684, 105–106].
Историческое бессмертие признается совершенно бессмысленным в горизонте знаний мертвых (древний мотив vanitas vanitatem), и к схожему выводу приходят герои Кундеры, причем этот вывод осложняется целым рядом сопряженных с ним мотивов романа. В частности, объясняя выбор Хемингуэя как посмертного собеседника Гёте, нарратор сообщает, отсылая читателя к финалу первой части романа, где Аньес с ужасом думает о возможном посмертном бытии рядом с мужем и дочерью:
Хемингуэй и Гёте удаляются по дорогам запредельного мира, и вы не преминете спросить меня, что это была за идея свести вместе именно их. <…> А что должно быть? С кем, на ваш взгляд, хотел бы Гёте общаться на том свете? С Гердером? С Гёльдерлином? С Беттиной? С Эккерманом? Вспомните Аньес. <…> После смерти она не жаждет быть ни с Полем, ни с Брижит. Так с какой стати Гёте возмечтал бы о Гердере? Скажу вам даже, пусть это чуть ли не кощунство, не мечтает он и о Шиллере. <…> Это его современники, их он не выбирал. <…> Когда однажды осмыслил, что они всю жизнь будут его окружать, горло перехватило от тоски. <…> Лишь в силу самой искренней любви к нему я вообразил в спутники ему человека, способного весьма заинтересовать его (вспомните-ка, если забыли, что Гёте при жизни был очарован Америкой!) [Кун-дера 2005, 94–95].
Другой лейтмотив романа, важный в посмертном диалоге Гёте и Хемингуэя, – это мотив бессмертия как «вечного суда», который, в частности, творится живыми над мертвыми. Еще в первой части романа нарратор в полусне слышит радиопередачу, которую ведет один из персонажей, Бернар Бертран, любовник Лоры, и в которой он «сообщает, что вышла новая биография Эрнеста Хемингуэя, сто двадцать седьмая по счету, но на сей раз истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим совратителем, тогда как доказано, что в августе 1944-го, а затем с июля 1956-го был полным импотентом» [Кундера 2005, 10], и т. д., и т. п. То есть все интересуются не книгами Хемингуэя, а только его личной жизнью. Об этом возмущенно говорит и сам писатель в разговоре с Гёте, который давно на собственном примере это почувствовал: «“Вместо того чтобы читать мои книги, теперь пишут обо мне. <…> Что я врал. Что был неискренен. Что был гордым. Что был мачо. Что я объявил о своих двухстах тридцати ранениях, когда их у меня всего двести десять. Что я онанировал. Что сердил свою маму”.
“Это бессмертие, – сказал Гёте. – Бессмертие – это вечный суд”.
“Коли это вечный суд, так там должен быть достойный судья. А не ограниченная учительница с розгой в руке”.
“Розга в руке ограниченной учительницы – это и есть вечный суд. Что другое вы представляли себе, Эрнест?”» [Кундера 2005, 91–92]. Гёте говорит о собственном кошмаре, который некогда раскрыл ему то вечное соглядатайство, которое приводит в ужас и других персонажей Кундеры, в частности Аньес и ее отца: «То был последний мой сон <…> Я за сценой, вожу кукол и сам читаю текст. Это представление Фауста. <…> Но тут я вдруг посмотрел в зал и увидел, что он пуст. <…> Я в растерянности оглянулся назад и остолбенел: я предполагал, что они в зале, а они оказались за кулисами и смотрели на меня большими любопытными глазами. <…> спектакль, который они хотели видеть, – отнюдь не куклы, которых я водил по сцене, а я сам! Не Фауст, а Гёте! И тогда меня обуял ужас, очень похожий на тот, о котором только что говорили вы. <…> я понял, что уже никогда не избавлюсь от них <…>» [Кундера 2005, 93–94]. Само бессмертие превращается в вечное соглядатайство и суд, от которых герои стремятся скрыться.
Кундера вносит инновацию в традицию жанра «диалогов мертвых»: в мире его романа «бессмертным на том свете во время их прогулок дозволено принимать тот облик из прежней жизни, какой им нравится. И Гёте предпочел интимный облик своих последних лет; <…> он носил на лбу прозрачную зеленую пластинку, привязанную шнурком к голове, чтобы защитить глаза от света; на ногах шлепанцы; а вокруг шеи толстый шерстяной полосатый шарф, потому как боялся простуды» [Кундера 2005, 95–96]. Это его защитный механизм, так он борется с той легендой, которую создала о своих отношениях с ним Беттина Брентано: «Где она ни бывает, только и говорит о своей великой любви ко мне. И я хочу, чтобы люди видели предмет ее страсти. <…> И я знаю, она топает злобно ногами оттого, что я здесь прогуливаюсь в таком виде: беззубый, плешивый и с этой смехотворной штуковиной над глазами» [Кундера 2005, 96]. Это и попытка Гёте спрятать свое настоящее лицо, своеобразный стыд перед соглядатаями, который является столь важным мотивом романа в целом (ср. особенно в первой части «Лицо» со сходными размышлениями Аньес).
Третья часть романа, «Борьба», в противоположность второй сосредоточена на «современном» плане действия, и Гёте здесь упоминается менее часто и не появляется в качестве персонажа. Дочь Аньес Брижит твердо решает не учить «язык Гёте» [Кундера 2005, 149], т. е. немецкий, к чему понуждает ее мать; это ее борьба за свои права, а борьба в этой части романа – основная тема, причем подчеркивается ее разрушительность: борьба за что-то всегда, по Кундере, оборачивается борьбой против. Также в этой части устанавливается параллелизм между Беттиной и сестрой Аньес Лорой, которая, в отличие от Беттины, жаждет только малого бессмертия, но борется за него столь же ожесточенно, причем жертвой борьбы становится ее сестра, чей очаровательный жест – с которого начинается роман – Лора апроприирует, как апроприирует и ношение темных очков, и, в конце концов, мужа.
У обеих героинь нарратор отмечает «порок духовной дальнозоркости»: «Пути Лоры и Беттины сходны <…> Назовем жест Беттины и Лоры жестом, взыскующим бессмертия. Беттина, претендующая на великое бессмертие, хочет сказать: отказываюсь умирать <…>, хочу превзойти самое себя, стать частью истории, поскольку история являет собой вечную память. Лора же, хоть и претендует лишь на малое бессмертие, хочет того же самого: превзойти самое себя и ту горестную минуту, которую она проживает, сделать “что-то”, чтобы остаться в памяти тех, кто ее знал» [Кундера 2005, 184–185]. Между Беттиной, с одной стороны, и Лорой и Брижит, с другой, устанавливаются и другие соответствия; так, все трое обожают «двусмысленность», в частности, такую, которая создается, когда современные героини усаживаются на колени к Полю, как Беттина садилась на колени к Гёте: «Эта ситуация вновь напоминает нам о Беттине, поскольку она, и никто другой, возвела сидение на коленях в классическую модель эротической двусмысленности» [Кундера 2005, 186].
Как и Беттина, Лора экзальтированно посвящает других в свою любовную жизнь и делает любовь как бы центром своей вселенной, хотя, по сути, чувство ее является, скорее, «демонстрацией чувства» (а намерение совершить самоубийство из-за охлаждения любовника подается как разыгрываемое безумие, типичное для homo sentimentalis). Ее декларации о намерении совершить самоубийство и постоянное напряжение, в котором она держит свою сестру, приводят к другой «сцене с очками», когда Аньес разбивает черные очки вечно заплаканной Лоры – очки как знак чего-то большего, чем просто потребность защитить глаза: «Аньес полюбила черные очки, еще когда училась в гимназии. <…> в них она казалась себе красивой и таинственной. <…> В жизни Лоры <…> черные очки стали <…> знаком печали. Она надевала их, но не для того, чтобы скрыть слезы, а чтобы показать, что плачет. <…> Да, Лора подражала, но одновременно и подправляла ее: она придавала черным очкам более глубокое содержание, более значительный смысл, так что, я бы сказал, Аньесиным черным очкам полагалось бы краснеть перед Лориными за свою фривольность» [Кундера 2005, 103–104].
Лора всегда апроприировала жизнь Аньес, и в конце третьей части романа Аньес не без причины кажется, будто эта вечная погоня наконец настигает ее. Разбивание очков – своего рода защитный жест, как у героя в сказке, за которым гонятся преследователи, а он бросает за собой различные волшебные предметы: «Аньес – с одной стороны комнаты, в руке – черные очки; с другой стороны напротив нее, <…> стоит Лора, прильнувшая к Полю. Они оба застыли, словно каменные. Никто не произносит ни звука. И лишь минуту спустя Аньес разнимает указательный и большой пальцы, и черные очки, этот символ сестринской печали, эта метаморфическая слеза, падают на каменные плитки у камина и разбиваются вдребезги» [Кундера 2005, 205].
Как и в случае с Христианой и Беттиной, разбивание очков – это объявление войны; в обоих случаях она ведется в том числе и за мужчину – Гёте и Поля соответственно. Но Поль поступит в итоге совсем не так, как Гёте, поскольку не сможет отрешиться от живущего внутри него homo sentimentalis. Именно так называется четвертая часть романа, которая начинается «вечным судом» людей над Гёте – судом довольно-таки враждебным из-за истории с Беттиной: «он не выдержал экзамена, коим для него была Беттина», «не сумел откликнуться» [Кундера 2005, 210]. Автор размышляет здесь о сути европейской цивилизации как «цивилизации чувств, сантиментов» и о европейской идее любви, взращенной, в частности и самим Гёте с его «Вертером», любви homo sentimentalis, которая является вне- и докоитальной: «Европейское понятие любви уходит корнями во внекоитальную почву. Двадцатый век, который бахвалится раскрепощением нравов и с радостью высмеивает романтические чувства, не в состоянии наполнить понятие любви каким-то новым содержанием (в этом одно из его крушений), так что молодой европеец, произносящий про себя это великое слово, возвращается на крыльях восторга, хочет он или не хочет, как раз туда, где томился в своей любви к Лотте Вертер <…>» [Кундера 2005, 220]. Отсюда пьедестал, на который ставят потомки Беттину, и изгнание Христианы из «галереи любовей Гёте»: «<…> публика отказывалась видеть в Христиане любовь Гёте просто потому, что Гёте с нею спал. Ибо сокровище любви и сокровище постели суть две вещи, которые исключали друг друга» [Кундера 2005, 219]. При этом в горизонте самого нарратора Христиана как раз оценивается вполне положительно: «Она была беззаветно предана своему мужу (говорят, что она защищала его собственным телом, когда ему угрожали пьяные солдаты наполеоновской армии) <…>», а главное – она «не страдала гипертрофией души и не мечтала играть на великой сцене истории. Подозреваю, что она любила лежать на траве, устремив глаза к небу, по которому плыли облака. (Подозреваю даже, что она умела быть в такие минуты счастливой, – картина, неприглядная для человека с гипертрофированной душой, поскольку он сам, пожираемый огнем своего “я”, никогда не бывает счастлив.)» [Кундера 2005, 234]. Христиана не идеализируется нарратором (в другом месте, скажем, он иронизирует над тем, что против мнений Гёте, с ее точки зрения, нельзя было восставать), но предстает как истинная пара ему: оба оказываются способны – Христиана раньше, Гёте позже – отринуть собственное «я» и почувствовать свободу.
Напротив, наделенная гипертрофией души Лора совершает предательство по отношению к сестре, причем слеза умиленного самим собой Гёте, получившего от Беттины проект памятника себе, сравнивается со слезами Лоры и Поля после гибели Аньес: «Слеза в глазах Лоры была слезой умиления, которое испытывала Лора над Лорой, готовой пожертвовать всей своей жизнью, чтобы быть рядом с мужем своей погибшей сестры. Слеза в глазах Поля была слезой умиления, которое испытывал Поль над преданностью Поля, не способного жить ни с одной женщиной, кроме как с той, которая была тенью его покойной жены, ее имитацией – ее сестрой. А потом однажды они улеглись вместе на широкую постель, и слеза (милосердие слезы) сделала свое дело: у них не возникло ни малейшего ощущения предательства, которое они, возможно, допустили по отношению к мертвой» [Кундера 2005, 225–226].
С homo sentimentalis Кундера также связывает чувство возбуждающей эротической двусмысленности и любовь к музыке. Лора, как и Беттина, обожает музыку (и «музыкальный романтизм»), которая оказывается у Кундеры воплощением одновременно Европы и homo sentimentalis, чья эгоцентрическая чувствительность так опасна: «Европа: великая музыка и homo sentimentalis. Близнецы, лежащие тело к телу в одной колыбели. Музыка научила европейца не только глубоко чувствовать, но и боготворить свое чувство и свое чувствующее “я”» [Кундера 2005, 226–227].
Именно от этого чувствующего «я», которое является определяющим для Беттины и гипертрофией которого совсем не страдала Христиана, освобождается Гёте через 156 лет после своей смерти, как свидетельствует последняя глава четвертой части романа, – а вместе с ним избавляется от своей зависимости от исторического бессмертия. В этой главе Гёте впервые является Хемингуэю в виде молодого щеголя: «Иоганн, – говорил Хемингуэй, – вы сегодня красивы как Бог. <…> Таким вы должны были предстать на вечном суде» [Кун-дера 2005, 235]. Гёте больше не чувствует необходимости самим своим видом опровергать утверждения Беттины, поскольку осознает, что «вечный суд – это глупость». Он окончательно перестает нуждаться в историческом бессмертии и каких-либо внешних оценках своих книг и своей личности. Он вполне готов принять, что от него не останется ничего, кроме, возможно, единственной строки: «Das Ewigweibliche zieht uns hinan». Более того, он утверждает, что и в своих книгах он «не присутствует»: «Эти книги живут на свете без меня. Никто в них меня уже не найдет. Поскольку нельзя найти того, кого нет» [Кундера 2005, 236].
Гёте, который, по Кундере, при жизни так много хлопотал о собственном образе, исчез, обрел окончательное равнодушие к своему «я» и к «бессмертию», хотя и не сразу – «через долгое время после смерти». Он объясняет Хемингуэю, что должно пройти не менее пятидесяти лет, прежде чем тот осознает окончательность смерти: «Естественно, я верил, что буду жить в образе, который по себе здесь оставляю. <…> Даже после смерти тягостно было смириться с тем, что меня нет. Знаете, ужасно странная вещь! Быть смертным – это самый элементарный человеческий опыт, но при этом человек никогда не способен был принять его, понять и вести себя соответственно. Человек не умеет быть смертным. А умирая, не умеет быть мертвым» [Кундера 2005, 226–237].
Диалог мертвых (и вся четвертая часть романа) заканчивается так: «И затем медленно, как тот, кто больше никогда не заговорит, [Гёте] произнес такие слова: <…> Я решил воспользоваться наконец тем, что я мертвый, и пойти, если можно это выразить столь неточным словом, спать. Насладиться абсолютным небытием…» [Кундера 2005, 238]. Таким образом, оказывается, что и после смерти приходится «нести свое больное “я” по миру», а окончательного разрыва – и с собственным образом, и с этим самым миром – достичь отнюдь не просто. В итоге лучшее, что дарит своим героям Кундера, – абсолютный покой и блаженство несуществования , о котором в «современном» плане романа мечтают Аньес и ее отец. Так решается вопрос не только об историческом, но и об онтологическом бессмертии: оно оказывается столь же призрачным. Более того, Гёте и Хемингуэй у Кундеры осознают свою вымышленность – и этого не дано героям «современного» плана: «Не стройте из себя дурака, Эрнест, – сказал Гёте. – Вы хорошо знаете, что в эту минуту мы лишь фривольная фантазия романиста, который заставляет нас говорить то, что мы, по всей видимости, никогда бы не сказали» [Кундера 2005, 237–238]. Эта высшая степень самосознательности связана с общей структурой романа, о которой мы скажем далее. Пока же отметим, что конец четвертой части знаменует собой своего рода апогей гётевского присутствия в романе. В дальнейшем упоминания о нем становятся реже, хотя сохраняются постоянные «переклички» гётевского и современного планов романа благодаря системе лейтмотивов.
Так, в части пятой, «Случайность», сфокусированной на событии смерти Аньес, героиня пытается совершить при жизни то же, что сделал Гёте в загробном мире, а именно исчезнуть из жизни своей семьи, с которой ее связывает лишь «случайность» (так же, как лишь «случайность» связывает Гёте с его современниками, с коими он так же не хочет проводить вечность), и обрести покой в Швейцарии, чей лесной рай ассоциируется для нее со стихотворением Гёте и звучащим в нем обещанием покоя, отдыха. Этот отдых оказывается «смертным», как и пророчит стихотворение.
Смерть воспринимается героиней не только как отдых от жизни, но и как возможность «отринуть Божий компьютер» [Кундера 2005, 279]. В ответ на вопрос маленькой Аньес, верит ли отец в Бога, тот ответил ей: «Я верю в компьютер Творца» [Кундера 2005, 16]. По его мнению, Бог некогда заложил в компьютер программу и удалился, причем никто не может в ней ничего изме- нить (хотя эта программа «не является провидческой антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности» [Кундера 2005, 17]). Каждый отдельный человек с этой точки зрения является лишь очередной реализацией заданного «прототипа человека», а его лицо – «всего-навсего номер экземпляра».
Стремясь, во-первых, освободиться от мира и людей, агрессивно навязывающих друг другу свои несуществующие «я», и стать вне ряда человеческих «экземпляров», во-вторых – отрешиться от собственного тела, кажущегося героине постыдным (для нее это лишь «загрязненный механизм, который она была вынуждена обслуживать» и который «оправдывается» только мигом эротического возбуждения [Кундера 2005, 178]), и, в-третьих, оказаться ближе к отцу, Аньес думает о «тихой обители». «Любовь или монастырь: два способа, как отринуть Божий компьютер, как увернуться от него. <…> Если же человеку не дано жить с любимым и подчинить все на свете любви, остается второй способ, как избежать Творца: уйти в монастырь» [Кундера 2005, 280]. Вспоминая фразу из «Пармской обители» Стендаля, Аньес понимает, что «уже нет места, отстраненного от мира и от людей». Героиня мечтает о том, чтобы не «жить», ощущая себя «я», но «быть» – всего лишь частью мироздания: «Жить – в этом нет никакого счастья. Жить: нести свое больное “я” по миру. Но быть, быть – это счастье. Быть: обратиться в водоем, в каменный бассейн, в который, словно теплый дождь, ниспадает Вселенная» [Кундера 2005, 281].
В шестой части романа, «Циферблат», повествующей о любовнике Аньес по прозвищу Рубенс, Автор возвращается к истории Гёте и Беттины, рассуждая о случайности и необходимости и об аристотелевском понятии «эпизода», т. е. события, находящегося вне каузальной цепочки, которую составляет та или иная история. Споря с Аристотелем, который «не любит эпизод», нарратор на примере истории Гёте и Беттины показывает условность самого этого понятия: «Встреча с Беттиной для Гёте была малозначащим эпизодом; не только потому, что занимала количественно ничтожное место в его жизни, но и потому, что Гёте настороженно следил за тем, чтобы этот эпизод никогда не сыграл в ней причинной роли <…>. Но именно здесь мы как раз и обнаруживаем относительность понятия эпизода <…>: никто не может поручиться, что какая-нибудь совершенно эпизодическая случайность не заключает в себе потенциальной силы, которая приведет к тому, что однажды, неожиданно, эта случайность все же станет причиной целого ряда других событий. Если я и говорю “однажды”, то это может быть и после смерти, примером чему был как раз триумф Беттины, ставшей одной из историй жизни Гёте уже после его смерти. <…> нет такого эпизода, который априорно обречен остаться только эпизодом, ибо каждое событие, даже самое неприметное, заключает в себе скрытую возможность стать, рано или поздно, причиной других событий и превратиться, таким образом, в историю <…>» [Кундера 2005, 328–329].
Это становится основным конструктивным принципом романа «Бессмертие»; например, желание не названной девушки из пятой части романа убить себя приводит к смерти Аньес, и это лишь один из многих «эпизодов». Другой эпизод соотносит эротические встречи Аньес, с одной стороны, и Гёте, с другой, через мотив руки, положенной на грудь девушки, еще не знавшей любви: как это делает Рубенс с 17-летней Аньес (которую он «случайно» встретит много лет спустя, совсем было забыв о ней), так и Гёте с молодой Беттиной.
Последняя, седьмая, часть романа, «Торжество», связывает воедино все его нити, способствуя завершению его сложной композиции и архитектони- ки. Здесь, как и в первой части, Гёте является в качестве поэта – но, как сам он предсказывал перед окончательным «уходом в небытие», от него остается лишь строчка о «вечно женственном». Ее вспоминает Поль в связи прощальным жестом Лоры – «золотым жестом», скопированным ею у Аньес, которая, в свою очередь, скопировала его у возлюбленной (как она понимает, уже будучи взрослой) отца. Это жест, которым героини прощаются с любимыми, но Поль не понимает, что он обращен Лорой не к нему, а к ее бывшему любовнику Авенариусу, другу нарратора: Поль «снова торжественно повторил немецкие слова: – Das Ewigweibliche zieht uns hinan! Вечная женственность манит нас к себе!
Как гордый белый гусь, стих Гёте хлопал крыльями под сводом бассейна <…>» [Кундера 2005, 369–370].
Смысловой итог романа Автор подсказывает здесь же, находя метафору для определения своего друга Авенариуса (в «Бессмертии» утверждается, что суть того или иного человека можно выразить лишь метафорой). Авенариус предпочел предстать перед судом за несуществующую попытку изнасилования, чем выдать тайну своей хулиганской ночной игры (во время ночной пробежки он режет шины автомобилей, и из этого «эпизода» тоже рождается история, когда из-за порезанной шины Поль не успевает приехать в больницу, чтобы проститься с умирающей Аньес): «Меня охватило особое умиление:
– Ты готов был сесть как насильник, лишь бы не выдать игры…
И тут я понял его: если мы отказываемся признать значимость мира, который считает себя значимым, если в этом мире наш смех совсем не находит отклика, нам остается одно: принять этот мир целиком и сделать его предметом своей игры; сделать из него игрушку. Авенариус играет, и игра для него – единственная значимая вещь в мире, лишенном значимости. <…> Я сказал:
– Ты играешь с миром, как меланхоличный ребенок, у которого нет братика!» [Кундера 2005, 372].
Стоическая игра с миром – действие внутри него и одновременно взгляд со стороны – оказывается понятой в постмодернистском духе «внежизненно активной позицией» , позицией Бога (недаром в ответ на реплику Автора Авенариус шутливо сообщает: «<…> Я все равно рад, что для тебя я Бог» [Кунде-ра 2005, 251]). Причем свойственна эта позиция отнюдь не только Авенариусу, но в первую очередь Автору. Недаром он способен находиться одновременно в двух планах, будучи и персонажем романа, и его творцом.
«Бессмертие» открывается и завершается сценами в бассейне. В начале Автор видит пожилую даму, и один ее жест оказывается столь выразительным, что из него рождается главная героиня будущего романа – Аньес: «Кто же такая Аньес? Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы <…>» [Кундера 2005, 11]. Автор «представляет себе» ее жизнь, причем большую роль в повествовании о ней играет идея невозможности существования индивидуальности, «единичного, неповторимого существа» (ведь одинаковые жесты присущи многим людям).
В ходе повествования об Аньес сразу же обнаруживаются любопытные детали. Во-первых, героиня размышляет о тех же самых проблемах, что и Автор: о жестах и о том, как они мало говорят об индивидуальности человека («Она знала этот жест: точно так поводит головой, приподнимая плечи и брови, Брижит, ее дочь» [Кундера 2005, 15]), ибо таковой и не существует. Во-вторых, Аньес слышит те же передачи по радио, что и ее Автор: оба с оди- наковым неприятием реагируют на общественную инициативу записывать все медицинские операции на пленку. Более того, Автор узнает об аварии, которая унесет жизнь его героини Аньес, из уст диктора Бернара – любовника Лоры и персонажа «романа героев». Таким образом, две плоскости метаромана пересекаются: герои ничего не знают о существовании «Авторской действительности» и никак не причастны к созданию романа о себе самих. Они, с одной стороны, выдуманы Автором (он декларирует это совершенно однозначно), а с другой – живут жизнью настолько же реальной, что и он сам, в той же самой действительности.
Таким образом, устройство «Бессмертия» парадоксально. Как в любом метаромане, в нем есть два плана, один из которых можно условно назвать «романом героев», а второй – «романом романа». В первом действуют вымышленные Автором персонажи (Аньес, Поль, Лора, Брижит и др.), во втором – сам Автор и условно равные ему, т. е. не являющиеся порождением его творческого воображения, субъекты, в первую очередь его друг Авенариус. Но сложность в том, что жесткой границы между двумя планами в произведении нет : так, радиодиктор Бернар одновременно «вещает» и в мире Автора, и в мире его персонажей. А профессор Авенариус, друг Автора, с которым он беседует о создаваемом романе, является любовником Лоры и подзащитным адвоката Поля, мужа сначала Аньес, а потом ее сестры, т. е. героев, вроде бы Автором вымышленных. В последней седьмой части «Бессмертия» Автор и Авенариус оказываются лицом к лицу с Полем и Лорой, причем только в этот момент читатели узнают финал написанного Автором романа, совпадающий с финалом «рамочного» текста.
При этом «роман героев» в «Бессмертии» не исчерпывается современностью и земной действительностью. Параллельно с историей Аньес и ее близких разворачивается история Гёте и Беттины Брентано. События происходят не только в историческом прошлом, но и в загробном, «запредельном» мире, где приятелем великого поэта оказывается американец Хемингуэй. Следуя за дирижерской палочкой Автора, они обсуждают те же вопросы, что обдумывают персонажи современного плана: роман искусно выстроен на множестве сцеплений.
При этом все герои, даже будучи условно и непрочно «счастливы», ощущают печаль и горечь существования, ибо живут в мире, покинутом Богом, причем не «Богом предков», а «Богом – изобретателем космического компьютера» [Кундера 2005, 16]. Они болезненно переживают «полуреальность» бытия, отсутствие у мира собственной значимости. Собственно, то же самое чувствует и нарратор-Автор, и именно этим объясняется парадоксальное устройство романа . Творец его вселенной оказывается лишенным своей божественности, сосуществуя с героями как бы в одной реальности и задаваясь точно теми же вопросами, т. е. не обладая полнотой истины. Герои могут лично встретить своего Автора, но они не только никогда не узнают об этом – им это никак не поможет: Автор как бы «вводит программу в компьютер», указывая героям «пределы возможностей», пределы развития их судеб, «внутри которых вся сила предоставляется случайности» [Кундера 2005, 17]. А бессмертие – и историческое, понимаемое как жизнь в памяти поколений, и личное, т. е. загробная жизнь – представляется лишь докукой, от которой впору бежать в абсолютное небытие.
Таким образом, «Бессмертие» отличается удивительной для жанра метаромана напряженностью философского и нравственного поиска и неутеши- тельностью его итогов. В перспективе этого поиска фигура Гёте оказывается, как было уже обозначено, «замкóвым камнем» романа. Она объединяет все его уровни, и через нее и параллели с ней решаются все основные проблемы этого произведения Кундеры: индивидуальность / лицо и неизбежная «типичность», Бог и его отсутствие, соглядатайство и «вечный суд», гипертрофия «я» и homo sentimentalis, европейская цивилизация и эротическая двусмысленность, циферблат жизни и умение «быть мертвым» – и другие, включая заглавную.