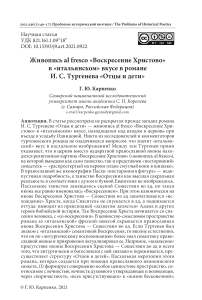Живопись al fresco "Воскресение Христово" в "итальянском" вкусе в романе И. С. Тургенева "Отцы и дети"
Автор: Карпенко Геннадий Юрьевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена не раскрытая прежде загадка романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» - живопись al fresco «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе, находящаяся над входом в церковь при въезде в усадьбу Одинцовой. Никто из исследователей и комментаторов тургеневского романа не озадачивался вопросом: что значит «итальянский» вкус в пасхальном изображении? Между тем Тургенев прямо указывает, что в церкви вместо надвратной православной иконы находится религиозная картина «Воскресение Христово» («живопись al fresco»), на которой выведено как само таинство, так и представлен «посторонний» свидетель - «распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке». В православной же иконографии Пасхи «посторонняя фигура» - недопустимая подробность, а таинство Воскресения как высшая сакральная реальность в соответствии с духом и буквой Евангелия не изображалось. Пасхальное таинство замещалось сценой Сошествия во ад, но такая икона все равно именовалась «Воскресением». При этом канонически на иконе Воскресения Христова - Сошествия во ад запечатлевается «исхождение» Христа, когда Спаситель не спускается в ад, а поднимается оттуда: выводит из преисподней «захватом запястья» Адама и других героев библейской истории. Так Воскресение Христа начинается со спасения человека, с «со-воскресения». В ценностно-смысловом пространстве романа за «итальянской» фреской-завесой скрывается православная икона Воскресения Христова - Сошествия во ад. Если Тургенев был знаком с «итальянской» семантикой Воскресения, то вполне естественно, что он по «литургическому воспоминанию» более знал семантику православной иконы и прикровенно актуализировал ее. Незримое, «зазавесное» присутствие иконы Воскресения Христова - Сошествия во ад и всего того, что литургически и богословски с ней связано и переживается, пресуществляет структуру «Отцов и детей». Пасхальная иеротопия этого романа, которая создается при помощи православного иконописного сюжета, (1) формирует совершенно особое ценностное пространство, соотносимое с вечностью, вечность духовного утверждающее и возводящее, через сопричастность, «всех присутствующих» к «жизни бесконечной»; (2) задает «сверхтекстовое» измерение, рождает мотив «надмирного» упования; (3) укрепляет русское слово как христоцентричное основание отечественной культуры.
И. С. Тургенев, «Отцы и дети», Воскресение Христово, десакрализация, Православие, Сошествие во ад, таинство, богословие трех дней, литургическое воспоминание, иеротопия
Короткий адрес: https://sciup.org/147227229
IDR: 147227229 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.8922
Текст научной статьи Живопись al fresco "Воскресение Христово" в "итальянском" вкусе в романе И. С. Тургенева "Отцы и дети"
«… блаженны не видѣвшіе и увѣровавшіе » (Ин. 20:29)
В о втором, исправленном и дополненном, академическом издании Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева неполнота историко-филологического и культурологического описания связана с недолжным отношением к христианскому подтексту и к метафизической проблематике творчества писателя — к тем «тонким» смыслам, которые составляли духовную атмосферу русской культуры XIX в. и были органичными для тех, кто принадлежал к ней по воспитанию и образу жизни.
Недостатки составления академических примечаний, как указывает Н. П. Генералова, главный редактор Рабочей редколлегии Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева, были обусловлены и научными установками, и идеологическими запретами советского времени [Генералова]. Раньше, по ее признанию, были очень жесткие требования к комментариям (поэтому приходилось быть предельно избирательными и лаконичными): «Они занимали не более одной трети по отношению к текстам» [Генералова: 798]. И только в последних томах писем Тургенева (в 2018 г. вышел т. 16, кн. 2. Письма, 1879) составители и члены Рабочей редколлегии смогли без ограничений реализовать научные принципы, «отчего объем комментариев стал значительно превосходить текст» [Генералова: 798]. Подводя итог многолетней напряженной работы, Н. П. Генералова с оттенком горечи заключает: «Сейчас было бы впору поднимать вопрос о третьем издании» [Генералова: 798].
Конечно, после выхода в свет 7-го тома произведений Тургенева стараниями ученых (В. М. Марковича, Д. С. Барицкого, А. А. Бельской, В. И. Габдуллиной, Е. М. Конышева, А. А. Новиковой-Строгановой, А. В. Чернова и др.) в значительной мере удалось устранить ощутимый пробел академического сопровождения романа «Отцы и дети» и актуализировать важные для его восприятия метафизические смыслы и христианские ценности.
Однако до сих пор пространственная вертикаль (т. е. духовная высота художественного мира Тургенева), выстраиваемая посредством сдержанной повествовательной интенции и не получающая явного фабульного оформления, в качестве предмета изучения представляет серьезную научную проблему, решение которой зависит не только от профессиональных навыков и филологических подходов, но и от мировоззренческой, «ценностной шкалы» ученого, без чего не может состояться ни одно гуманитарное исследование.
Усилившийся и активизировавшийся в постсоветское время научный интерес к прикровенным духовным ценностям отечественной культуры, к ее невербализуемым смыслам (см. об этом: [Есаулов]) (интерес, проявивший себя в многочисленных исследованиях и закрепившийся в фундаментальных направлениях, получивший, казалось бы, легитимный статус научного подхода) до сих пор вызывает неприятие как у определенной части литературоведов, так и у представителей других областей гуманитарного знания. Одно из последних ярких и аргументированных высказываний по этому поводу принадлежит академику Российской академии художеств С. В. Заграевскому, по разным основаниям отрицающему возможность адекватного научного изучения «опредмеченных» сущностей, порожденных верой: «“Надстройка” в виде акта веры в то, что едва ли не любой артефакт является частью некоего “сакрального пространства” (то есть имеет некий “высший потусторонний смысл”), является недоказанной, следовательно, неубедительной, следовательно, излишней, следовательно, вредной, так как перегружает научный текст и противоречит “бритве Оккама” — “не следует множить сущности без необходимости”. Научный текст должен быть предельно универсальным и не вызывать идеологического неприятия у тех читателей, которые не исповедуют веру автора этого текста. Этого требует элементарная научная этика» [Заграевский: 49]. По словам ученого, «реалистично настроенный человек ждет от науки прежде всего ответов на вопросы “что, кто, где, когда, почему”» [Заграевский: 63].
С. В. Заграевский пытается ввести репрессивные ограничения гуманитарному мышлению в виде «элементарной научной этики», «предельной универсальности» и таким способом предлагает предписать научной мысли оставаться при постижении духовных явлений отечественной культуры в отведенных «кем-то» границах; и если уникальный объект, рожденный, например, в лоне православной традиции, изучается, то его надлежит рассматривать с позиции позитивистской «вненаходимости», чтобы (не дай Бог) «не вызвать идеологического неприятия у тех читателей, которые не исповедуют веру автора»: «минималистская» психология заискивания перед современным читателем, перед «реалистично настроенным человеком», которому по разным причинам не открываются воплощенные в художественном творчестве ценности веры, — «элементарная научная этика», ведущая к забвению духовных традиций, к разрыву с ними, к утрате национальнокультурной идентичности.
Э. Шюре, обратившись к картине Рафаэля «Преображение», справедливо подметил характерную особенность восприятия мира «современным научным большинством». Как указывает философ, Рафаэль на своем последнем полотне композиционно обособил и специально вывел отдельную группу непосвященных апостолов и простых людей: «Они говорят и спорят, бурно жестикулируя, о чуде, но они не видят Христа»1.
Если исследователь в произведениях Тургенева «не видит Христа» (в отличие от самого писателя2), то анализируемая и реконструируемая им картина мира неизбежно будет «плоскостной». И даже интерес к метафизическим проблемам и типологическим обобщениям, намечающим пространственную вертикаль произведений писателя, хотя и осложняет ее эстетико-философскими надстройками, но не переводит в трехмерное иерархически ценностное измерение и, следовательно, не позволяет «схватить» всей полноты и богатства художественного мира «таинственного» Тургенева.
Далеки от «анагогического» назначения и примечания к роману «Отцы и дети» в 7-м томе, подготовленные академической группой в 1981 г.: они своей информативной заданностью и политической ангажированностью не отвечают потребностям даже т. н. «реального читателя» ( Тургенев , С7: 416–469).
Так, А. И. Батюто, автор примечаний к «Отцам и детям» в Полном собрании сочинений и писем Тургенева, относительно «живописи аl fresco “Воскресение Христово” в “итальянском” вкусе», упоминающейся в XVI главе ( Тургенев , С7: 75), счел необходимым дать пояснение только технической детали: «Живопись, получившая свое название от способа писания водяными красками по “свежему”, то есть еще влажному, цементному покрову стен, сводов и потолков; fresco — свежий (итал.)» ( Тургенев , С7: 462).
Такое выборочное и «сухое» объяснение смысла фрески в «итальянском» вкусе ничего концептуально-содержательного не прибавляет к проникновению в ценностную атмосферу романа и не способствует пробуждению читательского душевно–духовного отклика на изображаемое. Приведенный комментарий к «итальянской» фреске в ряду других такого же рода, составленных по избирательному и номинативному принципам, вполне очевидно, не выполняет своей прямой функции прояснения текста. И столь же очевидно, что не столько в «техническом просветительстве», сколько в воспитании и пробуждении эстетической и духовной зоркости читателя к смысловым подтекстам художественного мира писателя должна заключаться одна из задач научного комментирования. Как справедливо заметил А. М. Лидов, даже
«подробные внешние описания подчас не только не помогают познанию, но искажают суть традиции» [Лидов: 21].
В свое время А. П. Чудаков, оценивая состояние пушкиноведения, написал, что «Евгений Онегин» нуждается в сплошном комментированном чтении, «без пропусков, слово за словом» [Чудаков: 211]. Пожалуй, всеобщими усилиями к такого рода сплошному комментированию стремится приблизиться и современное тургеневедение, не успокаивающееся на достигнутом и настойчиво предлагающее новые дополнения к комментарию тургеневского романа [Тимашова: 316–328].
Такой «точечной» проблеме — выявлению подтекстовых смыслов фрески Воскресение Христово в «итальянском» вкусе над главным входом церкви в усадьбе Одинцовой — и посвящена предлагаемая статья.
До сих пор «итальянская» фреска остается нераскрытой загадкой тургеневского романа. Выразительная деталь оказалась на периферии исследовательского интереса и даже исключается наряду с церковью как случайный элемент из сюжетного миропостроения: «XVI глава начинается с подробного описания церкви в имении Одинцовой, которая потом никакой роли не играет в сюжете» [Васильева: 59].
Можно, конечно, предположить, что у Тургенева образ сельской церкви с «итальянской» фреской — это дань прошлому, прием сюжетно немотивированного описания в духе натуральной школы, только факт «физиологического» наблюдения. Но и тогда такая внесюжетная подробность все же должна быть рассмотрена как проявление творческого сознания и видения Тургенева, как своеобразное послание, шифр от которого хранится в большом тексте культуры и должен быть раскрыт.
Между тем никто из исследователей «Отцов и детей» не озадачился естественным вопросом: что значит «итальянский» вкус в изображении Воскресения Христа? Чтобы читатель не ошибся в понимании этого выражения, Тургенев дает зримую подсказку в образе «смуглого воина»:
«Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco над главным входом, представлявшею “Воскресение Христово” в “итальянском” вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке» (Тургенев, С7: 75).
«Распростертый смуглый воин» и есть та дополнительная характерная и узнаваемая подробность «итальянского» вкуса в изображении Воскресения Христова, которая в комплексе с другими деталями и смысловыми штрихами могла бы привлечь внимание исследователей. Однако имеющиеся в турге-неведении суждения, посвященные «итальянской» фреске, далеки от понимания сущности изображенного.
Как отмечалось выше, составитель примечаний к роману «Отцы и дети» А. И. Батюто своим техническим пояснением, что такое al fresco, «переключает» внимание читателей с восприятия внутреннего содержания на внешнее и не считает необходимым объяснить значимые смыслы «итальянского» вкуса.
Ю. В. Лебедев в практической работе, предназначенной для подготовленного читателя (учителя), рассматривая панораму усадьбы Одинцовой, выделяет «старую церковь в итальянском вкусе с распростертым над главным входом изображением смуглого воина в шишаке» [Лебедев: 90–91]. Для него фреска в «итальянском» вкусе — семантически несущественное указание Тургенева, поэтому ученый переносит эту характеристику на церковь, которая почему-то превращается в «старую церковь в итальянском вкусе». Хотя старой она быть не может, так как «губернский архитектор воздвигнул оба здания (господский дом и церковь. — Г. К .) с одобрения покойного Одинцова» ( Тургенев , С7: 76).
И, как следствие, фреска, ускользая из поля зрения исследователя, перестает быть значимой единицей текста.
Социально-политическое содержание пытается увидеть в «церкви с росписью в “итальянском вкусе”» И. В. Грачева [Грачева: 17]. Как полагает автор статьи, внешний вид церкви и усадьбы, выстроенных «в европеизированном духе» [Грачева: 18], по контрасту с большинством крестьянских домов, которые «топились по-черному, так же как это было в далекие допетровские времена», позволяет читателю сделать вывод о том, «как далеко оторвались дворяне от истоков своей национальной культуры, и о том, насколько безразличны они к бедам и нуждам простого народа, и о том, насколько неэффективным оказывается российское реформаторство» [Грачева: 18].
Д. С. Барицкий, наоборот, придает особенное значение «итальянской» фреске и в свете заявленной в его статье проблематики — мотива тоски «о Христе» — вдохновляется следующим предположением: « Слава Христа и пораженный этой славой языческий солдат — вот что бросается в глаза. Может ли быть эта деталь случайной? Может быть, именно слава Христа поманила нигилиста Базарова, разбудив в нем тоску по вечному смыслу?» [Барицкий, 2017: 8]. Но в романе и намека нет на то, что Базаров заметил экзотическую фреску: иначе автору пришлось бы описывать «сакральный жест» героя, точнее — его отсутствие, при виде церкви и давать читателю повод для дополнительной рефлексии (перекрестился или не перекрестился он). В романе также нет явных указаний и на соотнесенность в сознании Базарова «славы Христа» и его «тоски» о Господе. При взгляде на фреску он скорее бы заметил «на первом плане смуглого воина в шишаке», чем Христа: Христос в иконописной традиции — «привычная фигура», и любая возникающая лишняя деталь неизбежно отвлекает от доминирующего образа, превращает икону в картину. Церковь и фреску мы видим «глазами автора», а не «глазами героя». Предположение ученого и богослова, что эта деталь не может быть случайной, заслуживает внимания, однако ее значимость нужно учитывать в первую очередь не в логике развертывания сюжета героя, а в логике развертывания сюжета автора и быть чуткими к интенциям авторского сознания.
Впрочем, Д. С. Барицкий, развивая христоцентричную проблематику романа, в статье «Образ храма в творчестве И. С. Тургенева» уже не столь прямолинейно и категорично связывает семантику церкви с восприятием ее Базаровым и пишет обобщенно о «своеобразной заботе о герое высших сил» [Барицкий, 2019: 222], а также приходит к принципиальному для понимания сути поэтики романа и весьма справедливому выводу:
«…в романе “Отцы и дети” образ храма — это не просто деталь пейзажа. Он участвует в развитии сюжета, а также органично встроен в символико-образный ряд, который сообщает произведению особый религиозно-философский подтекст» [Ба-рицкий, 2019: 222–223]. К сожалению, дальше такого вывода-тезиса исследователь не идет, и, следовательно, остаются не-объясненными смысл и значение «итальянского» вкуса надвратной фрески.
Тургенев же двумя фразами о данной фреске сумел прикро-венно выразить скрытую боль и тяжелые сердечные переживания русского человека при виде свергнутых исконных икон, на месте которых оказались изображения другой традиции.
Буквально каждое слово в высказывании Тургенева об «итальянской» фреске наполнено глубоким подтекстовым содержанием. И чтобы оно не оставалось для читателя закрытым, «темным местом», чтобы его осмыслить и прояснить, необходимо обратиться к широкому контексту: культурноисторическому, религиозному и собственно православному.
Но вначале следует рассмотреть тургеневское высказывание как структурно-семантическую единицу, как фрагмент текста, прочитываемый «филологическим взглядом». На языковом уровне можно заметить двойное (избыточное) маркирование итальянских значений: определение живописного вкуса как итальянского и использование не переведенного на русский выражения al fresco , указывающего на сознательно оценочное его употребление автором. Дело в том, что писатель его давно русифицировал: уже в «Письмах из Берлина», в заметках 1847 г., Тургенев прописывает «альфреско» русскими буквами ( Тургенев , С1: 293). Несмотря на то, что слово писателем давно было найдено, оно, однако, выводится в романе в его исконном виде. Пожалуй, было бы уместней для представления сельской церкви прописать слово в русском начертании — «альфреско» (или опустить его). Такая избыточность (al fresсo в «итальянском» вкусе) и соединение-столкновение русского и итальянского слов (живопись al fresсo) — дополнительный выразительный оттенок авторского отношения к состоянию национальной религиозной живописи. Ценностно-смысловой сдвиг в сфере духовного Тургенев обозначил даже лексикографически.
Обращает на себя внимание и то, что писатель изображение Воскресения Христова над входом в церковь назвал не иконой, а живописью al fresco и тем самым выразил также свое отношение к повсеместному процессу «обновления» (вытеснения, уничтожения) православных икон, их замены европейскими образцами. Бросается в глаза и иконически недопустимая композиционная диспропорция: на переднем плане смуглый воин в шишаке, а не сияющий в славе Христос. Достаточно посмотреть на надвратные образы русских церквей, чтобы убедиться в новомодности такой композиции.
Можно также предположить, что Тургенев сознательно «Воскресение Христово» взял в кавычки, чтобы подчеркнуть, что речь идет не о пасхальном событии, а о живописной картине под таким названием, оказавшейся волей доминирующих настроений времени над входом в сельскую церковь. Знаком авторской оценки описываемой церкви является и ее уподобление зданию: церковь и господский дом названы как «оба здания», построенные под влиянием Александровского стиля ( Тургенев , С7: 76).
Особенность отмеченных структурно-семиотических признаков позволяет сделать и первый предварительный вывод: Тургенев художественно тонко выражает свое негативное отношение к современному процессу замещения исконных православных икон религиозной «живописью al fresco в “итальянском” вкусе» и уводит волнующую его проблему в подтекст. По меньшей мере, писатель недвусмысленно обозначил религиозно-смысловой сдвиг в духовной сфере.
Намечающийся подтекст в связи с высказыванием Тургенева об «итальянской» фреске в сельской церкви порождает целый ряд вопросов, ответить на которые возможно только при изучении широкого контекста. Один из них, волновавший современников Тургенева и, как мы уже заметили, самого писателя, был связан с осознанием и оценкой процессов, происходивших в русской живописи того времени и, в частности, в практике иконописания.
Общее отношение к проявлению нового «вкуса» в русской иконописи выразил современник Тургенева и ревнитель Православия А. Н. Муравьев, на книгу которого писатель откликнется своей первой рецензией в 1836 г.: «Самая живопись новых икон отзывается картинностию западного искусства, нет уже точного подражания древним священным образцам»3.
Но как такое могло случиться, что православное видение в сотворении иконы было вытеснено западноевропейским вкусом, что «в несколько десятилетий рассеялось все, что накоплялось веками» [Муратов: 4], что «запечатлено кровию многих святых исповедников»4, что создавалось «в глубинах соборного опыта Церкви» [Успенский: 525]5?
Как доказывает Л. А. Успенский, в России, начиная со второй половины XVII в., по разным причинам, социальнополитическим и богословским, намечается и в дальнейшем усиливается процесс «латинизации невооруженного Православия»: «Латинизации этой подвергается и богословие, и мировоззрение, и сама религиозная психология. В области художественного творчества, так же как и в области богословской мысли, исчезает творческое переживание Предания» [Успенский: 385].
В культурной и даже в церковной среде очень быстро сформировалось пренебрежительное отношение к традиционной иконе как примитивному, непрофессиональному продукту древнерусского мастера, невежественного в своем художестве: не знакомого с образцами античного искусства, не знающего правил линейной перспективы, не изучавшего анатомического строения человеческого тела и т. д. [Дмитриев]. О. Ю. Тарасов отмечает, что негативное отношение к древнерусской иконе было авторитетно закреплено на Большом Московском соборе 1666–1667 гг. С тех пор «утверждается взгляд на старую икону как на образ ложного подобия » [Тарасов: 81] и оправдывается ее уничтожение: «…сожигати обветшивые иконы» [Тарасов: 100]. Уже в XIX в. Н. В. Кукольник, идеолог нового русского искусства, писал: «Обращаясь к характеру живописи до Петровского периода, скажем вообще, что главными отличительными ее чертами были: резкий, неправильный и грубый рисунок, сухой колорит без рельефа, отсутствие перспективы»6.
Икона стала полем борьбы разных духовных, мировоззренческих, культурно-исторических и национальных установок. Она оказалась «живым организмом, тонко реагирующим на все вкусовые и стилеобразующие изменения» [Красилин: 221]. Духовная трансформация творческого и общественного сознания русского человека выразилась в создании, приятии и почитании «других икон». Повсеместно прививался «чужой» вкус. Образцом стали произведения западноевропейского искусства: духовная напряженность прежнего образа была заменена красочностью, бытовыми деталями и композиционным новаторством. Л. А. Успенский пишет о том, что стало немодным почитание древнерусских икон: «Естественно, что иконописание было почти вытеснено из культурной среды салонной религиозной живописью, низкопробным подражательством западным образцам, которое носило вполне отвечавшее вкусам эпохи и лестное для просвещенных людей наименование “икон итальянского стиля” или “в итальянском вкусе”» [Успенский: 515].
Тот же Н. В. Кукольник утверждает мысль о том, что «школа русская есть продолжение школы общей итальянской»7. И как законодатель нового вкуса в качестве подтверждения своей мысли делится впечатлением от «картона» К. П. Брюллова «Бичевание Христа»: «Истязание Спасителя, другой картон, поражает, изумляет анатомическою подробностью. Никто не упрекнет нас в пристрастии к Карлу Павловичу и мы, не опасаясь никакого упрека, смело можем сказать, что это колоссальное творение несомненно станет наряду с вековечными картонами Буонароти. В этом картоне художник найдет полный курс обширной науки»8.
Духовное, иерархически ценностное отношение к священному первообразу и со стороны художника, и, как следствие, со стороны зрителя исчезло: одному можно придерживаться при изображении Иисуса Христа принципа верности анатомическим подробностям (даже без использования средств «адамова» прикрытия), другому — восторгаться «колоссальным творением».
Эпизод с «итальянской» фреской доказывает, насколько Тургенев был чуток и внимателен к смысловым и ценностным сдвигам, находившим отражение в иконе как «живом организме».
В чем же заключается секрет «итальянской загадки»? Для историков живописи и иконописи никакой загадки здесь не существует. Хорошо известно (и это «общее место»): то, что Тургенев назвал «итальянским» вкусом в изображении Воскресения Христа, получило свое полное и завершенное выражение в западноевропейских «сакрально-бытовых» картинах, на которых выводятся как само таинство Воскресения Христова, так и Его «посторонние свидетели» в виде стражников и воинов, пребывающих либо во сне, либо в изумлении от увиденного чуда, либо в ужасе (см., например, картины «Воскресение Христа» Рафаэля, Тициана, Веронезе).
В православной же иконографии Пасхи «посторонняя фигура» в виде «подсматривающего» воина или другого любого живого «смертного лица» — невозможная подробность. На пасхальных иконах канонически было недопустимо непосредственно запечатлевать таинство Воскресения Христа: «На византийских и древнерусских иконах “Воскресения Христова” никогда не изображается само Воскресение — выход Христа из гроба» [Иларион: 5].
Поводов для такого сокрытия Воскресения было достаточно.
На первом историческом этапе, уже с первых веков христианства, как показывают разыскания, использовался «образ замещения»: по взаимосвязанным причинам (сакрализация и гонения) в практику вошло иносказательно, символически и даже аллегорически «показывать Воскресение через изображение других сюжетов» [Иванова, 2012: 16] (см. также: [Покровский: 391]).
Но основным аргументом, почему в православной иконописи не было принято запечатлевать Воскресение Христово (даже в эпоху отсутствия гонений), является внешне «фактологический», но по содержанию сакрально-богословский довод: в Евангелиях нет описания данного события. А евангелисты, как отмечал А. Н. Муравьев еще в середине 1830-х гг., «верно повествуют то, что верно знают»; «говорят, что знают, а не то, в чем взаимно условились»9.
Личностному мировидению и произволу иконописца не было места: в древнехристианской живописи неукоснительно соблюдался принцип соотнесения иконописного сюжета с евангельским источником, и любое воплощенное событие на православной иконе должно было быть основано на Священном Писании, на том или ином литургическом воспоминании (см.: [Покровский: I]). Как отметил Н. П. Кондаков, «христианская икона в своем источнике есть идеальное подобие , типическое изображение святых лиц и событий Нового Завета, учителей и деятелей христианства. Это основа христианской иконографии» [Кондаков: 1].
Исследователи разных религиозных предпочтений единодушны в оценке причин молчания евангелистов о воскресении Христа.
Н. В. Покровский в 1892 г. отмечал: «Непостижимый по самой сущности своей момент воскресения Иисуса Христа в Евангелии не описан. Евангелие упоминает о великом трусе (землетрясении . — Г. К. ) и отвалении ангелом камня от входа в погребальную пещеру; но как произошло само воскресение, в каком виде был воскресший Спаситель, как Он восстал из гроба и куда отправился, — все это остается сокровенною тайною, и молчание о том Евангелистов свидетельствует лишь об их безупречной искренности и величии события, не поддающегося никакому описанию» [Покровский: 391].
Католический богослов Г. У. фон Бальтазар в «Theologie der Drei Tage» (1969 г.), словно конспектируя Н. В. Покровского, пишет: «Евангелия, так ярко изображающие страдания живого Иисуса (в том числе Его смерть и погребение), совершенно естественно хранят молчание о периоде времени между положением во гроб и воскресением. Мы благодарны им за это»10.
Причина единодушного молчания евангелистов — неиз-рекаемо сакральная и духовно личная: она одновременно выявляет и предел их веры, и сущность христианства. Одно дело свидетельствовать о Христе, исходя из собственного опыта, как пишет апостол Иоанн: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин. 1:1–3).
Другое дело — свидетельствовать о воскресении Христа, когда события не «видели своими очами»: не будучи его «зрителями», евангелисты, естественно, его и не описывают. Но они, ученики и последователи Христа, готовы свидетельствовать о Воскресении: «…блаженны не видѣвшіе и увѣровав-шіе» (Ин. 20:29)11.
Причем они готовы свидетельствовать о Нем и под пытками, и на кресте, и при усекновении главы, и при сошествии в ад, если иметь в виду путь Иоанна Крестителя, которого в утверждении славы Христа, как передают древнейшие общецерковные предания, не остановил даже ад: он и в преисподней продолжал славить Христа, «возвещая сущым во аде веры сияние»12.
И они знают, что это их «мученическое свидетельствование». В греческом языке «мученик» и «свидетель», согласно словарю середины XIX в., передаются одним словом μάρτυς13. И. Ф. Синайский, опираясь на преимущество древнегреческого текста Нового Завета, слово μάρτυς переводит следующим образом: «…свидетель, свидетельствующий кровью, мученик, свидетельствовавший своей кровью правду, истинность христианской веры»14.
Воскресение Христово — это таинство таинств, «святая святых» веры, высшая и интимнейшая сакральная реальность, «вселенское событие», «зрителем» которого никто не был, но которое утверждается и свидетельствуется в веках только любовью ко Христу, чистотой и искренностью веры. Поэтому и парадоксально, и закономерно, что оно, «вселенское событие», чтобы не умалялась его таинственная природа (и достоинство веры), изображению не подлежит, но молитвенно провозглашается: «Воскресение Христово видевше»15.
Вместо события Воскресения в православной традиции запечатлевалась сцена Сошествия во ад (событие Великой Субботы). Однако церковным наименованием иконы «Сошествия во ад» все равно утверждалась надпись «Ανάστασις»,
-
т . е. Анастасис, «Воскресение». Таким способом в Православии иконой Воскресения Христова считается икона Сошествия во ад, или, как пишет Н. Василиадис, « икона, изображающая Сошествие Господа во ад, рассматривается православной иконописью как подлинная икона Воскресения»16.
По наблюдениям Л. А. Успенского, до середины XVIII в. на Руси не было другой иконы Воскресения Христова, кроме иконы «Сошествие во ад» [Успенский: 507]. Однако уже через 100 лет А. Н. Муравьеву, автору «Писем о богослужении Восточной Кафолической Церкви» (1835), приходилось напоминать русскому человеку, что пасхальной иконой является «Сошествие Господа во ад, или Воскресение, которое иначе никогда не изображалось в древней иконописи» [Муравьев: 131].
Причем канонически на иконе Воскресения Христова — Сошествия во ад запечатлевается тот момент, когда Христос не спускается в ад, а поднимается оттуда, откуда нет возврата: «…нисшедший в преисподнюю не выйдет» (Иов 7:9). Святитель Филарет в «Слове в день Пасхи» (1845) напоминает: «Воскресение и восхождение Христово началось не от гроба только, но и от ада»17. «Отсюда “воскресает” Христос» — в унисон со святителем Филаретом пишет через столетие Г. У. фон Бальтазар18.
Евангельская традиция, дух апостольского служения и соборного воспитания (радость переживания «рождающегося» Христа из ада, «первенца из мертвых») побуждали иконописцев показывать Господа возвышающимся Победителем над темной бездной («…и имею ключи ада и смерти» — Откр. 1:18) и спасающим из преисподней «захватом запястья» Адама и вслед за ним других героев библейской истории, «насельников ада» [Иванова, 2013: 55–72]. Таким образом Воскресение Христа начинается со спасения человека, с «со-воскресения». Не только таинство Воскресения, но и сотериология, надежда на спасение человека привлекала иконописцев в сюжете сошествия во ад: «Идея воскресения Христова, в применении к спасению людей, раскрытая в творениях церковных писателей, перешла в искусство и отлилась в форму композиции сошествия Иисуса Христа во ад» [Покровский: 398]. Другими словами, на православной иконе запечатлевается не схождение
Христа к мертвым, а «исхождение», «общее воскресение», в том числе спасение «безнадежно потерянных», «неискупленно мертвых» (что очень важно в перспективе рассмотрения «базаровской темы», хотя Базаров к таким «потерянным» — в контексте таинства Елеосвящения и духовной семантики финала романа — не относится [Новикова-Строганова, 2011a, 2011b]). Тайна Великой субботы, завесу над которой приоткрывает богословие тридневия, запечатленное в православной иконе Воскресение Христово — Сошествие во ад, сотериоло-гична19: путь в Царство Небесное, путь к воскресению из мертвых становится открытым для «всякой плоти», как об этом говорится в Деяниях святых апостолов: «И плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде» (Деян. 2:26–27). Когда Тургенев пишет о картине «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе над главным входом церкви в усадьбе Одинцовой, то он тем самым указывает на тот факт, что западноевропейский сюжет Воскресения, проникнув на усадебные церковные фрески, «отодвинув» в сторону православный образ, оказался востребованным и даже модным не только в российских столицах, но даже в дворянских усадьбах (см., например, работы А. Л. Шустова, В. К. Шебуева, К. К. Штейбена)20.
Зримое отклонение от православного иконописного подлинника (см. его описание: [Кондаков]) дает повод для очевидных восприятий и однозначных оценок «итальянской» фрески как иконы с признаками десакрализации таинства. Наиболее острую критику этого процесса мы встречаем в работе того времени — сочинении архиепископа Анатолия (Мартыновского) «О иконописании» (1845). В отдельной главе «Критический взгляд на церковно-историческую живопись школ итальянских и вообще новейших» (как, впрочем, и во всей работе) содержится развернутая характеристика новейшего иконописного стиля, указываются «эффекты», разрушающие духовное восприятие иконы: «так называемые живописные ракурсы», «тучность человеческого тела», «атлетичные формы тела», «мясистость и преобладающая красота»21.
Тургенев разделяет озабоченность ревнителей православной традиции и в «Современных заметках» (1847) признает чрезмерность «влияния господствующей у нас живописной школы, которая, несмотря на все свои несомненные достоинства, грешит иногда театральностию и стремлением за эффектом» (Тургенев, С1: 283)22.
В связи с рассматриваемым аспектом проблемы — всеобщим поклонением итальянскому стилю — важно привести суждение Тургенева о состоянии русской живописи, выраженное им в письме из Рима к Л. H. Толстому от 25 ноября (7 декабря) 1857 г.:
«…один художник Иванов человек замечательный и умный; другие наши художники — дурачки, зараженные брюлловщи-ной, — и бездарные, то есть не то что бездарные, все они с средствами — да ничего из этих средств сделать не умеют. Живут с девками, бранят Рафаэля — и только. Русского художества еще нет» ( Тургенев , П3: 276).
Чуть раньше об этом же он рассуждал и в письме к П. В. Анненкову от 31 октября (12 ноября) 1857 г.: «Художеству еще худо на Руси» ( Тургенев , П3: 267).
У Тургенева уже в 1847 г. сформировалось, а к 1857 г. окрепло твердое убеждение в ущербности эклектичной живописи как национального вида искусства и как формы выражения русского духа. И не важно, кто ее автор — признанный мастер, ставший явлением современной живописи, разводящий «брюлловщину», или неизвестный усадебный художник, — все они подражают итальянским образцам и заслуживают одной и той же оценки.
Писатель сдержанно (без поддержки и явного осуждения) относился и к усилиям князя Г. Г. Гагарина, который связывал восстановление русского православного иконописания с соединением его с византийским стилем. Для Тургенева в современной ему религиозной живописи существовали две крайности: «брюлловщина», которой нужно оказать противодействие, и, «с другой стороны, византийская школа князя Гагарина» ( Тургенев , П3: 267).
Упоминание Тургеневым в 1857 г. имени Г. Г. Гагарина и византийской школы указывает на «осведомленность» писателя. В 1855 г. князь Г. Г. Гагарин в «Воспоминаниях о Карле Брюллове», признавая его художественный гений, писал:
«…Брюллов, будучи великим художником, не сделался художником национальным и даже не дал русскому искусству национального направления»; «Опередив, по крайней мере, на три века русское искусство своего времени, он поневоле потерял из виду ту нить, которая связывала это искусство с национальными художественными преданиями»23.
И как приговор, с которым совпадает мнение Тургенева о том, что «русского художества еще нет», звучат слова князя:
«…отсутствие самостоятельной идеи в нашем искусстве, порабощенном гением Брюллова. Не потому ли оно до сих пор и остается лишенным самобытности?»24.
А в 1856 г. Г. Г. Гагарин издает в Тифлисе брошюру «Краткая хронологическая таблица в пособие истории византийского искусства», где излагает основные идеи своего «византийского проекта» — «возвращения» русской церковной живописи «к искусству национальному» [Маслов].
В это же время сходными мыслями об утрате русской иконописью самобытного стиля делился и А. С. Хомяков: «Икона не есть религиозная картина <…>. Та картина, к которой вы подходите, как к чужой <…>, — это уже не икона…»25. В статье «О возможности русской художественной школы» (1847) философ, вскрывая ее мировоззренческие и духовные основания, отказывает ей в творческой перспективе: «…такое состояние мысли не допускает даже и возможности русской народной школы»26. А. С. Хомяков в философско-публицистической форме говорит о России как о «колонии европейского эклектизма»27, где хотят «…создать для своего обихода какое-то эклектичное русско-западное существование <…> и потом наложить это существование на величие Русской земли»28.
Совершенно разные по своим мировоззренческим установкам деятели отечественной культуры, оказавшись перед «иконой», созданной вне православной традиции, высказались с одинаковым чувством разочарования. Тургенев, как и другие общественные деятели, переживавшие за состояние русской религиозной живописи, выражал общую боль эпохи.
Безусловно, для традиционного православного сознания зримая эклектика — фреска Воскресения Христова с «распростертым на первом плане смуглым воином в шишаке» — была необычным явлением и у набожного человека (по крайней мере старообрядческого чина), привычно поклонявшегося дома иконам предков, могла вызвать недоумение [Языкова].
Как видим, живопись al fresco «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе над входом в сельскую церковь усадьбы Одинцовой насыщена глубокими подтекстовыми смыслами и еще более глубоким контекстным содержанием, связывающим роман «Отцы и дети» с мировоззренческими и духовными проблемами эпохи, с поиском незыблемых основ национального самосознания и самоопределения.
Однако не менее важным при постижении смыслов фрески «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе представляется и другое — «зафресковое» мыслимое изображение: то, о чем автор не сказал, но на что косвенно и сокровенно указал. Так, в ценностно-смысловом пространстве романа за «итальянской» фреской-завесой скрывается православная икона Воскресения Христова — Сошествия во ад. Если Тургенев был знаком с «итальянской» семантикой Воскресения Христова (с долей иронии актуализировал ее в романе), то вполне естественно, что ему была известна и семантика православной иконы Воскресения Христова — Сошествия во ад. Следовательно, писатель понимал бросающуюся в глаза разницу смыслов между православной и итальянской иконами, и эту разницу он, разумеется, мог увидеть только с точки зрения православной традиции, зная евангельский контекст, фиксируя по содержанию и стилю икон изменения в сакральной сфере.
Конечно, в XIX в. такое видение русской иконы приобреталось в первую очередь не чтением специальной литературы и даже не чтением Евангелия. «Ведь не читал же всю жизнь Тургенев Евангелия», — проницательно точно замечает В. В. Розанов: иначе «Евангелие было бы как “Энеида” Вирги-лия, книга чтимая, но недейственная»29. Знание русской иконы достигалось погруженностью с детства в духовный уклад русской жизни, причастностью к церковной атмосфере «литургического воспоминания» [Постовалова].
Давно отмечено, что Тургенев активно задействовал поэтику универсальных обобщений в выстраивании «второго сюжета» [Маркович]. Но в данном случае писатель использовал своеобразный иеротопический прием, посредством которого то, что не названо, но подразумевается, образует особое сакральное средоточие, незримую духовную икону, вынесенную в сердцевину веры («…блаженны не видѣвшіе и увѣровавшіе»).
Если понимать сюжет как художественное событие, созидающее объемную иерархически целостную картину мира (как раз по своим «строительным принципам» подобную Храму), то тогда все зримые и незримые «знаки» церкви в имении Одинцовой не только организуют локальную иеротопию, но и, вступая во взаимодействие, сопрягаются со «знаками» всего романа, семантически усложняют его линейное развертывание, а «сверхсимволические» смыслы, излучаемые «зазавесной» иконой Воскресения Христова — Сошествия во ад, в совокупности с другими подобными соподчиненными «знаками» романа (нетерпеливое ожидание отцом приезда Аркадия, «иконичная» любовь Фенечки к сыну или «святая, преданная любовь» родителей Базарова) создают совершенно особое — дух захватывающее и просветляющее — ценностное пространство, соотносимое с вечностью и вечность духовного утверждающее, возводящее через сопричастность всех присутствующих к «жизни бесконечной».
Незримое («зазавесное») предвечное бытие православной иконы Воскресения Христова — Сошествия во ад в романе «Отцы и дети» и всего того, что литургически и богословски с ней связано (если мы такое присутствие видим и учитываем), пресуществляет его структуру. История жизни Евгения Базарова — это крайняя форма отпадения человека от Благодати, разрыва с национальной традицией и культурой (демонстративного разрыва с Богом, с родителями, с женщиной, с пушкинским словом) (см.: [Карпенко]). В сложившейся ситуации тотального отпадения все сюжетные (линейно-событийные) и интерпретационные (исследовательские) попытки спасения-оправдания героя тщетны. Спасение Базарова возможно только в пространстве христианских ценностей: упований и надежд на окончательную милость Господа.
Роман ценностно и иерархически центрирован (хотим мы этого или нет) вокруг «зазавесной» православной иконы Воскресения Христова — Сошествия во ад: она духовно-онтологическая вершина «Отцов и детей», утверждаемая не только текстовой, но и «затекстовой» реальностью, освящающая не только текст, но и «затекст»: «Анастасис» — икона перехода, перехода из ада в рай, из рабства греху — к благодати» [Иванова, 2010: 41].
«Зазавесная», скрытая семантика «священной истории» и русской жизни волновала Тургенева с ранних лет. В. А. Ма-кешина напомнила о неизгладимом впечатлении, какое произвела на юного писателя книга Н. М. Максимовича-Амбоди-ка «Эмблемы и символы», хранившаяся в усадебной библиотеке [Макешина: 248]. В «Емвлемах и символах избранных», как говорится в предисловии к книге, содержатся «иконологичное описание» и «емвлематические изображения» человека и мира30.
Не нужно также забывать, что одни из первых творческих опытов Тургенева были связаны с христианской и пасхальной проблематикой. Так, будучи восемнадцатилетним студентом Санкт-Петербургского университета, «экзаменуемый» на наличие «способностей» редактором «Журнала Министерства народного просвещения» К. С. Сербиновичем, он получил задание написать рецензию на книгу христианского паломника и обер-секретаря Святейшего синода А. Н. Муравьева «Путешествие по святым местам русским» (СПб., 1836). Тургенев не только успешно выполнил данное поручение, но и обнаружил причастность к атмосфере «литургического воспоминания» ( Тургенев , С1: 173—187).
Показателен и еще один «пасхальный» пример. В письме от 14 октября 1853 г. Тургенев, находясь в Спасском, рассказывает П. В. Анненкову о том, какое впечатление произвело на него стихотворение о Воскресении Христа, сочиненное его усадебным работником «по имени Николай Федосеев Градов» ( Тургенев , П2: 260), а по факту, как доказали исследователи, принадлежавшее самому писателю и опубликованное 13 лет назад ( Тургенев, П2: 538–539).
По содержанию пасхального стихотворения «Восторг души, или Чувства души в высокоторжественный день праздника» видно, что оно написано со знанием деталей «литургического воспоминания», выстраивается в памяти самого автора (Тургенев, П2: 262–264) и с опорой на евангельский текст, с явной ориентацией на Евангелие от Матфея (см.: Мф. 27:51). В стихотворении говорится не только о наступлении тьмы в момент смерти Христа, но и о втянутости природы в «богословие трех дней», о ее соучастии «провозвестницей» в таинстве воскресения, в том, что скрывается за завесой видимого:
«<…> Завес в храме раздрался ˊ … Потемнело солнце ясное — Потемнели небеса.
Вижу тьму, весь мир объявшую, Слышу страшный треск громов — Грудь земли затрепетавшую,
И восставших из гробов!» ( Тургенев , П2: 263)31.
Вот этот свет Спасения и надежды на него прикровенно, «зазавесно» и передает Тургенев в романе «Отцы и дети».
Как отмечали и подробно описали исследователи романа «Отцы и дети», научные отсылки (имена, книги, идеи) создают дополнительное смысловое поле. Однако оно, пусть и насыщенное, усиливающее семантическое напряжение произведения, соотнесено все же с реальностью, его породившей, находится в горизонте и перспективе события. Иеротопия романа, намечаемая православной иконой Воскресения Христова — Сошествия во ад, задает другое, сверхтекстовое, измерение, иное состояние — рождает в душе каждого, живущего надеждой, вечное «надмирное» упование: «Ты не оставишь души моей в аде» (Пс. 15:10). Такое бытие в вечности возможно в свете «зазавесной» иконы Воскресения Христова — Сошествия во ад и тех евангельских предвечных смыслов Спасения, которыми она сородственно сотворена и пропитана, а также благодаря русскому языку, христоцентричному по своей духовной природе, способному передать сокровенно, как это показал Тургенев, тончайшие и глубинные духовные ценности отечественной культуры, доступные всем: «…я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, — оно и есть лицо Христа» ( Тургенев , С10: 162).
На ценностно онтологическом уровне Тургенев романом «Отцы и дети» участвует в напряженном споре своего времени о национальных основах русского искусства, культуры и жизни. Суть проблемы обозначил еще в 1842 г. друг писателя В. П. Боткин:
«Наше искусство не имеет корня; оно без почвы и опоры колеблется в воздухе <…>. Да, новое искусство без отчизны; оно скиталец, который питается от всякой трапезы и у которого ничто не лежит глубоко к сердцу, который ни к чему кровно не привязан»32.
Тургенев, во многом соглашаясь и с В. П. Боткиным, и с другими деятелями культуры, приходит к выстраданному убеждению, что «корнем», «почвой» и «опорой» является христо-центричный и «иконичный» русский язык, язык народа и веры33:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» ( Тургенев , С10: 172).
Список литературы Живопись al fresco "Воскресение Христово" в "итальянском" вкусе в романе И. С. Тургенева "Отцы и дети"
- Барицкий Д. С. Мотив тоски «о Христе» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2017. № 2. Апрель-июнь. С. 5-10.
- Барицкий Д. С. Образ храма в творчестве И. С. Тургенева // Сборник материалов научно-богословской конференции кафедры филологии Московской духовной академии «Таинство слова и образа» (3-4 октября 2018 года). Сергиев Посад: Московская духовная академия; Переславль: Переславская епархия, 2019. С. 220-229.
- Васильева А. Именины Базарова // Русская филология. 24. Сборник научных работ молодых филологов. Тарту: Tartu University Press, 2013. С. 58-64.
- Генералова Н. П. Академическое тургеневедение на современном этапе // Вестник Российской академии наук. 2018. Т. 88. № 9. С. 793-803.
- Грачева И. В. Лейтмотив «Александровского времени» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Русская речь. 2003. № 5. С. 15-19.
- Дмитриев Ю. Н. Об истолковании древнерусского искусства // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: АН СССР, 1957. Т. 13. С. 345-363.
- Есаулов И. А. Проблема визуальной доминанты русской словесности // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 42-53 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/ journal/article.php?id=2474 (15.10.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2474
- Заграевский С. В. О научной обоснованности иеротопии // ПРАННМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 1 (15). С. 49-69.
- Иванова С. В. Иконография Пасхи: «Сошествие во ад» или «Воскресение»? // История и культура: исследования. Статьи. Публикации. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 2010. № 8. С. 36-61.
- Иванова С. В. К вопросу об апокрифическом «Евангелии Никодима» как литературном источнике иконы Воскресения // Труды объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2010. СПб.: Наука, 2011. С. 142-152.
- Иванова С. В. Традиция изображения Воскресения в русском христианском искусстве: иконография сюжета в историческом развитии: автореф. дис. .канд. искусствовед. СПб., 2012. 23 с.
- Иванова С. В. Типология жеста: захват запястья // Зеленый зал-3. Альманах. СПб.: Российский институт истории искусств, 2013. С. 55-72.
- Иванова С. В. Воскресение Христово. СПб.: Метропресс, 2014. 76 с. (a)
- Иванова С. В. Метаморфозы российской традиции иконографии Воскресения // Обсерватория культуры. 2014. № 4. С. 138-141. (b)
- Иванова С. В. Гравюры Апостольского кредо и изменения иконографии Воскресения в России // История и культура. 2015. № 13 (13). С. 38-64.
- Иларион (Алфеев Г. В.). Христос — победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции. СПб.: Алетейя, 2001. 431 с.
- Карпенко Г. Ю. Алекситимик Базаров, или «Амбулаторная карта» героя (роман И. С. Тургенева «Отцы и дети») // Вестник Самарского университета. История, филология, педагогика. 2018. № 4 (24). С. 101-109.
- Кондаков Н. П. Лицевой иконописный подлинник. СПб.: Товарищество Р. Годикс и А. Вильборг, 1905. Т. 1: Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 97 с.
- Красилин М. М. Русская икона XVIII — начала XX веков // История иконописи VI-XX века. Истоки. Традиции. Современность. М.: АРТ-БМБ, 2002. С. 209-230.
- Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». М.: Просвещение, 1982. 144 с.
- Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. 357 с.
- Макешина В. А. Флористические образы и символы в творчестве Тургенева // И. С. Тургенев. Новые исследования и материалы. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. Вып. 2. С. 248-259.
- Маркович В. М. Человек в романах И. С. Тургенева. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975. 152 с.
- Маслов К. И. Об одном источнике «византийского проекта» князя Г. Г. Гагарина: Доминик Папети // Обсерватория культуры. 2016. Т. 13. № 6. С. 696-702.
- Муравьев А. Н. Древности и символика Киево-Софийского собора // ПРАННМА. Проблемы визуальной семиотики. 2017. № 3 (13). С. 116-132.
- Муратов П. П. Древнерусская живопись в собрании И. С. Остроухова. М.: Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1914. 86 с.
- Новикова-Строганова А. А. «О вечном примирении и жизни бесконечной.»: к 150-летию романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Литература в школе. 2011. № 12. С. 2-6. (a)
- Новикова-Строганова А. А. Православное таинство соборования в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Спасский вестник. 2011. № 19. С. 16-20. (b)
- Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. СПб.: Типография Департамента уделов, 1892. 608 с.
- Постовалова В. И. «Памяти животворящий свет.» (к герменевтике литургического воспоминания) // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2013. № 1 (13). С. 90-111.
- Реморов И. А. Русские переводы Нового завета XIX века: в поисках достойного языка // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2016. Т. 15. № 9: Филология. С. 124-139.
- Тарасов О. Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М.: Прогресс-Культура, Традиция, 1995. 495 с.
- Тимашова О. В. Некоторые дополнения к комментарию романа Тургенева «Отцы и дети» // И. С. Тургенев. Новые исследования и материалы. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2012. Вып. III. С. 316-328.
- Успенский Л. А. Богословие иконы Православной церкви. М.: Изд-во братства во имя святого благоверного князя Александра Невского, 1997. 656 с.
- Чудаков А. П. К проблеме тотального комментария «Евгения Онегина» // Пушкинский сборник. М.: Три квадрата, 2005. С. 210-237.
- Языкова И. К. Икона как опыт духовного противостояния // Икона в русской словесности и культуре. Материалы XIII Международной научной конференции. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2017. С. 11-22 [Электронный ресурс]. URL: http://www. bfrz.ru/data/nayk_center/naychnuj_sekretar/Sbornik_konferencia_2017_ ikonichnost_slovesnost_zarubezhje_Lepahin_Prns.pdf (15.10.2020).