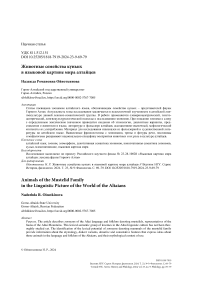Животные семейства куньих в языковой картине мира алтайцев
Автор: Ойноткинова Н.Р.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена зоонимам алтайского языка, обозначающим семейства куньих - представителей фауны Горного Алтая. Актуальность темы исследования заключается в недостаточной изученности в алтайской лингвокультуре данной лексико-семантической группы. В работе применяются словарноцентрический, текстоцентрический, лингвокультурологический подходы к исследованию зоонимов. При описании зоонима к слову с определенным лексическим значением приводятся сведения об этимологии, диалектные варианты, представления о животном в языке, литературе и фольклоре алтайцев, ассоциативно-оценочный, мифологический контексты их употребления. Материал для исследования извлекался из фольклорной и художественной литературы на алтайском языке. Выявленные фразеологизмы с зоонимами, тропы и фигуры речи, пословицы и мифологемы раскрывают национальную специфику восприятия животных и их роль в культуре алтайцев.
Алтайский язык, зооним, зооморфизм, денотативная семантика зоонимов, коннотативная семантика зоонимов, куньи, млекопитающие, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147245842
IDR: 147245842 | УДК: 811.512.151 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-9-69-79
Текст научной статьи Животные семейства куньих в языковой картине мира алтайцев
,
,
Наименования животных в языке отражают специфику национальных представлений об окружающем мире и человеке, так как эти лексемы могут обладать концептуализирующими возможностями, что делает языковую картина мира этноса богатой и разнообразной. Цель данной статьи – выявление специфики зоонимов, входящих в лексико-семантическую группу куньих, как актуализиторов различной текстовой информации в алтайской лингвокультуре. Актуальность исследования зоонимов в алтайском языке определяется общетеоретической и практической значимостью темы, ее недостаточной разработанностью в алтайском языкознании, а также отсутствием исследовательских работ по комплексному изучению фаунони-мической лексики алтайского языка.
Теоретическая значимость исследования заключается в описании языковых средств объективации зоонимов-концептов на различных уровнях языка: фонетическом, лексическом, словообразовательном и синтаксическом. Изучение национально-культурных особенностей языковых единиц является значимым для решения важной проблемы описания универсальности и специфичности языковых картин мира. Широкая представленность тех или иных зоонимов-концептов в культурном пространстве будет свидетельствовать о длительности их существования в алтайской среде, их лингвистических возможностях в передаче информации. Исследования в данном направлении дают возможность раскрыть механизмы того, как язык отражает представления о том или ином животном, изучить особенности ментальности и культуры носителей языка.
Зоонимическая лексика тюркских языков достаточно изучена в историко-этимологическом, лингвогеографическом и словообразовательно-семантическом аспектах. В тюркологии одной из важных работ является статья А. М. Щербака «Названия диких и домашних животных в тюркских языках» [1961], в ней наиболее полно рассмотрены наименования животных. Названия животных наряду с другими лексико-семантическими группами в целях реконструкции лексики для пратюркского состояния представлены в «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков» [СИГТЯ, 2001]. Некоторые лексико-семантические группы алтайских зоонимов были рассмотрены в статьях Н. В. Ерленбаевой [2018], Л. Н. Ты-быковой [2022], Н. Р. Ойноткиновой [2023а; 2023б].
Материалом исследования послужили художественные и фольклорные тексты, фразы из разговорной речи, иллюстрирующие контексты употребления зоонимов-концептов, обозначающих куньих. В работе применяются словарноцентрический, текстоцентрический, лин- гвокультурологический подходы к исследованию лексем. При словоцентрическом подходе в описании зоонима из разных словарей приводятся данные о его этимологии, диалектные варианты, краткая справочная информация о животном, а также ассоциативно-оценочный контекст употребления зоонима. При текстоцетрическом подходе к зоониму приводятся контексты из различных текстов. Интересным материалом для лингвокультурологического анализа текстообразующего потенциала зоонимов-концептов являются образные слова и эвфемизмы, поскольку в их семантике заложены типовые образные представления языковой культуры, отражающие культурно-исторический опыт народа.
В работе мы в некоторой степени касаемся лингвистической проблемы соотношения коннотативного и денотативного компонентов в семантике зоонимов, обозначающих семейство куньих. Отношения коннотации и денотации слова при употреблении должны рассматриваться в связи с общей характеристикой их потенциального семантического объема, так как свойства коннотации тесно связаны с денотацией. Коннотация как таковая «появляется у того или иного слова в момент пересечения с обозначаемым им объектом или явлением определенного порога значимости для языкового сознания» [Красильникова, 2020, с. 360].
Исследование
Животные, относящиеся к куньим, являются одним из наиболее богатых видов семейств млекопитающих отряда хищных. Представителей семейства куньих, как и семейства грызунов, сложно отличить обычному человеку, их могут распознать охотники, которые часто бывают в местах обитания этих зверей. К куньим в алтайском языке относятся зоонимы агас ‘горностай’, киш ‘норка’, камду ‘выдра’, борсук ‘барсук’, jеекен ‘росомаха’, jоонмойын / кӱзен ‘хорёк’, сарас ‘колонок’, суузар ‘куница’, ‘норка’, токтонок ‘ласка’. Поскольку о лингвокультурных особенностях лексемы камду ‘выдра’ мы уже писали [Ойноткинова, 2023б], перейдем к рассмотрению других лексем, обозначающих представителей этого семейства.
Агас [agas] – ‘горностай’ (лат. Mustela ermine ) . Слово представлено во многих тюркских языках [СИГТЯ, 2001, с. 163]. В алтайском языке и его диалектах существуют фонетические варианты: алт., тел., телеут. агас (АРС, 2018, с. 22; ТРС, 1995, с. 12), туб. аас (РТС, 2019, с. 48), кум. ас (КРС, 1995, с. 66).
В охотничьих эвфемизмах и загадках, основанных на метонимическом переносе, отмечены наиболее яркие денотативные признаки: кажаар аҥ ‘белый зверь’; кажаар ‘белый’; тырмакту ‘когтистый’; аг алды ‘белый зверь’; кара куйрук ‘черный хвост’ [Яимова, 1990, с. 110]. У горностая вытянутая форма тела, белый, как молоко, окрас, эти признаки отражены в загадке: Сӱп-сӱӱри сӱттий ак болтыр, / Соп-содон солjыраш ак болтыр ( Агас ла койон ) . ‘Тот, что продолговатый, / Оказывается, молочно-белый, / Тот, что вытянулся вверх, / Тоже, оказывается, белый (Горностай и заяц)’ (АЗ, 1981, с. 46). Охотники различали окрас шкуры горностая в разное время года, а также ночью и днем: Ай удура – ак, / Кӱн удура – кӧк ( Агас ). ‘При лунном свете белый, / При солнечном – синий’ (Горностай) (АЗ, 1981, с. 45). Зимой только отметина на хвосте, нос и глаза выдают зверька на фоне белых снегов: Кӧлзӧҥниҥ бажы кол кара ( Агастыҥ куйругы ). ‘Голова Кёлзёна, как озеро, черная (Черный кончик хвоста горностая)’.
По мифологии алтайцев, горностай – создание светлого божества Кудая. Ему приписываются такие признаки, как байлу аҥ ‘священное животное’, ак аҥ ‘белое (светлое) животное’. В тексте «Заяц и горностай» объясняется, почему у горностая кончик хвоста черный: медведь (в других вариантах этого мифа – светлое божество Кудай) почернил сажей горностаю хвост, а зайцу – уши, после того как горностай и заяц встретились ночью на охоте. С того дня горностай не сталкивался с зайцем, и заяц никогда не наступал на горностая, задние лапы зайца так и не выпрямились, и его потомки рождаются такими же кривоногими.
В шаманских обрядах к халату-мандьаку шамана пришивали кусочки шкурки горностая как оберег, это символизировало духов-отцов (ак ас тонду адаларым ‘мои отцы, имеющие горностаевую шубу’) [Анохин, 1994, с. 43]. В юртах некоторых алтайцев в прошлом в честь духов-покровителей развешивались разноцветные ленточки, а также зооморфные идолы, сделанные из тушки зайца, беркута или горностая. Эти тотемные фетиши устанавливали на почетном месте (тöр), на мужской половине, а в доме – в его восточной части, напротив входа, а также у входной двери (МА, 2022, с. 272). Горностай считался тотемным животным алтайского рода ара: Агас-jолос jайыкту ара улус. Ол агас маҥтап турат не. Бистиҥ улус бöстöҥ jайык этпес, агастыҥ терезинеҥ, jолостыҥ терезинеҥ эдер. ‘Люди из рода ара имели изображение-дьайык из горностая. Горностай бегает. Наши люди дьайык из ткани не делают, из шкуры горностая или колонка делают’ (МА, 2022, с. 72).
Борсук [borsuq] – ‘барсук’ (лат. Meles meles ). Слово присутствует во всех тюркских языках, а для пратюркского выделяется форма – *borsmyk ‘барсук’ [СИГТЯ, 2001, с. 164]. В «Древнетюркском словаре» – borsuq (ср. borsmuq) (ДТС, 1969, с. 164). Предполагается внутритюркская производность от глагола *b/porsy – ‘вонять’ [СИГТЯ, 2001, с. 164]. В алтайском литературном языке – борсык ‘барсук’ (АРС, 2018, с. 125), в диалектах встречаются фонетические варианты – телеут. порсык (ТРС, 1995, с. 67), туб. порсок (РТС, 2019, с. 9), кум. морсук / морсок / морсак [Баскаков, 1972, с. 207, 233], см. также (РКС, 2021, с. 18), чал. морсок / морсык / порсок [Баскаков, 1985, с. 178, 189].
Название барсука в охотничьем лексиконе алтайцев замещалось эвфемизмами: тырмакчы ‘когтисный’; как и в тувинском языке, барсука называли иносказательно jуулу токпок ‘жирная колотушка’ [Яимова, 1990, с. 111]. Округлое, вытянутое тело барсука напоминает чурку или колотушку. На основе этой метафоры построена загадка: Jердиҥ алдында jуулу токпок jадыры ( Борсук ). ‘Под землей лежит жирная колотушка (Барсук)’. Чал. Ja (а)зада jаглу ток-паш таптым ( Морсок ). ‘В лесу нашел жирную чурку (Барсук)’ (АЗ, 1981, с. 43, 153).
В охотничьем фольклоре барсука причисляли к «семи слепым» земли ( jети jердиҥ сокор-лоры ) наряду с кротом, медведем, тарбаганом, сусликом и др., пробуждающимся от зимней спячки в марте. Согласно мифу, барсук стал жирным после того, как подсказал медведю (божеству Кудаю), где есть много кедровых орехов. Медведь барсука благословил, поэтому барсук жирный (АФ, 1988, с. 162). В данном контексте барсуку приписываются такие человеческие черты, как честность и доброта. Сравнение человека с жирным барсуком встречается в жанре благопожелания: Борсуктый семис бол, / Койондый ак бол! ‘Как барсук упитанным будь, / Как заяц белым будь!’
В других фольклорных текстах о барсуке говорится как о трусливом животном, который боится хищников: Билбес болзоҥ, тоолойлы, / Аҥдардыҥ адын адайлы: / Тӱште jӱрерге кор-тык, / Ӧлӧ башту борсук (КТ, АJА, с. 17). ‘Если не знаешь, то посчитаем, / Имена животных назовем: / Днем ходит он боязливый, / С полосатой головой барсук’.
Jеекен [d’eeken] – ‘росомаха’ (лат. Gulo gulo ). По А. М. Щербаку, тюркская праформа наименования росомахи – * д'ӭӭгӭн ( д'ӭӭгбӭн ). Слово представлено в сибирских тюркских и монгольских языках: алт. jӭкӭн , тув. чӭкпӭ , чӭкпӭӭ , якут. сiӭгӭн ( hiӭuӭн, сӭiгӭн мӭiгӭн ). Ср. монг. зэгэ , бур.-монг. зантахи ; тунг. айлоки , дянтакū , мэнтэкэн , етэкэ , мукэвкū , мургэ , агūлкāн , сōлтарай , хūḕгэн [Щербак, 1961, с. 140]. В литературном алтайском языке – jеекен ‘росомаха’ (АРС, 2018, с. 196). Диалектные варианты слова: тел., туб., чалк. jеекен (СГ, 2006, с. 7; РТС, 2019, с. 289), кум. дьеекен [Баскаков, 1972, с. 212].
В народных песнях алтайцы росомаху характеризуют как сильного, быстрого зверя, преодолевающего большие расстояния в поисках пищи. Мясо росомахи не употребляли в пищу, так как животное питается мясом павших животных, поедает остатки добычи волков и медведей. В шуточной песне выражается ирония по поводу того, что дядя, думая, что приедет племянник, готовил суп из мяса росомахи: Jееним келер болор деп, / Jеекенниҥ эдин кайнат-тым. Jееним келбей барарда, / Jер алдына таштадым (ААК, 1972, с. 54). ‘Думая, что племянник придет, / Мясо росомахи сварил. / Когда племянник не пришел, / Под землю бросил’. О «разбойничьем нраве» этого животного в стихе К. Тепукова говорится: Jелбер тонду jеекен / Jер-тууны эбире jелген. / Аҥчылар одузын тапты, / Ажанып алды тапту (КТ, АJА, с. 15). ‘В растрепанной шубе росомаха / Вокруг холма-горы прошла. / Она стойбище охотников нашла, / Досыта поела’.
В сказке «Обида марала» росомахе приписываются такие характерные для него черты, как «опущенная голова», «медлительность»: … сӧӧмгӧ jетпес алтамду, тӱҥзӱк бӱткен чырай-лу... ‘.с опущенной головой, с шажками меньше аршина...’ (АНС, 2001, с. 76, 77).
Киш [kis] - ‘соболь’ (лат. Martes zibellina Linnaeus ). Слово относится к тюркскому фонду - kis (ДТС, 1969, с. 310). Алт., кирг., тув., кiш ; башк., тат., кэш ; ног. kic ; kic ; якут. кгс [Щербак, 1961, с. 143]. В диалектах алтайского языка другие фонетические варианты отсутствуют.
Соболя также называют албаа ‘подать, дань’, поскольку мехом этого животного в прошлом алтайцы платили подать. Эфвемистические названия животного: булугун , булугу , бул-ган ‘соболь’; алды ‘дикий зверь’; aw ‘зверь’; аскыр aw ‘соболь-самец’, карсактык aw ‘ког-тисный зверь’ [Яимова, 1990, с. 109-110]. На соболя алтайцы охотились в основном осенью и зимой. Мех соболя очень ценился, поэтому в свадебных песнях и благопожеланих молодоженам желают, чтобы у них родились сыновья, которые будут охотиться, т. е. обеспечивать свою семью и род, дочери, которые будут шить из собольих мехов шапки: Айу адар уулдарлу болзын, / Албаа коктоор кыстарлу болзын. / Бору адар уулдарлу болзын, / Борук коктбор кыстарлу болзын (КТ, AJA, с. 24). ‘На медведя охотиться пусть сыновья будут, / Из соболя [шапки] шить пусть дочери будут. / На волков охотиться пусть сыновья будут, / Шапки шить пусть дочери будут’. Из собольих лапок алтайцы шили теплые меховые шапки. Меховая шапка считалась признаком достатка.
Зооним киш / албаа ‘соболь’ употребляется в качестве сравнительного образа, отображающего молодость и внешнюю красоту человека. В описании внешней красоты у алтайцев также встречаются метафорические сравнения кабактары кара киш ‘брови (как) черные соболя’: Jергележип jорткон бойлулардыҥ кӧргӧн кӧстӧри jылдыстар ошкош, чырайлары кызыл буланаттый, кабактары кара киш (АТ, ЧБ-ЧК, 2003, с. 83). ‘У скачущих рядом молодых (букв. ‘глядящие’) глаза, как звезды, лица румяные (букв. ‘красные, как иван-чай’), брови - черные соболя’.
По поверьям охотников, соболь, как и некоторые другие дикие животные, создан божеством Нижнего мира, его называют кара aw ‘черный зверь’, поэтому охотники их старались не убивать. Если же добыли, то применяли имитативный магический прием: тело соболя, завернув в черную материю, роняли на землю, потом , сказав, что это никому не нужное животное, забирали с собой. На соболя охотились ради меха, поэтому мясо оставляли в дупле дерева. Киш атса, оныw терезин алып алар, эдин тезе пийик агашка илип койор, эмесе агаш-ташла пазырып койор. Аwчылaр адып алганын теw-тaй улежип алар. ‘Соболя если подстрелят, его шкурку брали, мясо же на высокое дерево подвешивали или деревом -камнями придавливали. Охотники подстреленное поровну делили’ (Обрядность., 2019, с. 307). Женщине съесть мясо соболя означает обречь себя на трудные роды. Это объяснялось тем, что соболь рожает своих детенышей с трудом.
У теленгитских охотников существует поверье: мех соболя не потеряет окрас, если, добыв зверя, наступить на его шкурку своей обувью, при этом сказать: Киш атса, ддбктиw тама-нына jыжaлa, айдар: «Тьфу, курумчы турбай бу!». Ол тушта киш дwин ]ылыйтпас болор (УУС, 2010, с. 285). «Когда соболя застрелят, потерев об подошву обуви, говорят: “Тьфу, это войлок, оказывается!” Тогда соболь свой окрас не потеряет».
Кузен / доонмойын [ kuzen / d’onmoyin ] - ‘хорёк’ ( Mustela ( Putorius ) putorius L.)
Для пратюрского состояния выделяется лексема * kuzen ‘хорёк’ [СИГТЯ, 2001, с. 163]. В алтайском литературном языке употребляется слово ]оонмойын ‘хорёк’ (АРС, 2018, с. 208, 413, 534). В диалектах используются другие лексемы: телеут. кузен (ТРС, 1995, с. 49), кум. чарлак / шарлаак [Баскаков, 1972, с. 266, 272], см. также (РКС, 2021, с. 483), чал. кузонь , шарлак [Баскаков, 1985, с. 171, 225].
Происхождение наименования jooнмoйъlн также связано с эвфемизмами: < jooH ‘толстый’ + кyjyyн ‘шея’ (монг. хузуун ‘шейные позвонки) ‘толстая шея’), и это слово утвердилось в алтайском литературном языке. Иносказательно этого зверька также называют кojoйым ‘купец’ [Яимова, 1990, с. 113]. Кум. чарлак / шарлаак и чал. шарлак происходят от хак., саг. сарлах < иносказание сарг кулак.
В литературе у хорька выделяется такой признак, как плодовитость, а также то, что это животное не строит себе жилище: Jooнмoйын - оскулек ак ‘хорёк - плодовитое животное’ (АРС, 2018, с. 534). Сарас ладоонмойын - / Уйа этпес кулуктер. / Келишкен ле ичеген / Jери болот уйуктаар (КТ, AJA, с. 15). ‘Колонок и хорёк - / Норы не делающие удальцы. / Что попадется - для них нора, / На земле стальной спят’.
Сарас [ saras ] - ‘колонок’ (лат. Mustela sibirica Pallas ), ‘солонгой, сусленник’ (лат. Mustela altaica ). В алтайском литературном языке и его диалектах зафиксирована лексема сарас ‘колонок’ (АРС, 2018, 2018, с. 571; ТРС, 1995, с. 72), см. также [Баскаков, 1972, с. 245; 1985, с. 194]. Зооним сарас произошел в результате сложения слов: сары + агас ‘рыжий + горностай’.
Иносказания колонка возникли на основе денотативных и коннотативных (оценочных) признаков: сары ‘желтый’, шыра ‘желтый’ < монг. шар ‘желтый, рыжий’; шырас (< шар ‘желтый’ + ас ‘зверек) ‘желтый зверек’; jыду ‘вонючий’ (< jыт ‘запах’; }'ыду сары , букв. ‘вонючий желтый’; коломзок - коломсок ‘вонючий’ [Яимова, 1990, с. 111].
Колонок распространен на Алтае повсеместно. Подобно горностаю и хорькам, питается преимущественно мелкими грызунами [Кучин, 2001, с. 194-195]. В возбужденном состоянии издает громкое стрекотание, помимо этого, также выделяет жидкость с едким запахом с помощью анальных желёз. Эта особенность животного отразилась в языке в сравнении jыту сарас ‘вонючий колонок’, который используется в контекстах для обозначения низкого, подлого, неопрятного человека.
В прошлом северные алтайцы из рода челей «обрезали колонку кончик носа и уносили домой, думая, что завладели душой этого зверька [Потапов, 1929, с. 131]. Шорцы делали изображение духа-покровителя охоты из холщевой тряпочки со шкуркой колонка - сарас . Оно хранилось вместе с другими домашними изображениями духов, которых «угощали» при отправлении на охоту, поскольку от них зависел успех. Духу-хозяину колонка бырзгали ара-кы (вином). По поверью, если во время кропления шкурка шевельнется, удачи на охоте не будет. Охотник кропил огонь вином, угостив салом, при этом он также обращался к колонку со словами: Кара кундус чакалыF / Талай кан улы! ‘Имеющий воротник из черного бобра, / Морского царя сын!’ [Там же, с. 147]. Шкурку колонка пришивали к шаманскому костюму алтайцы в знак почитания духа-покровителя: Тоннык jаказъlна уйтту кичинек таш, сарастык куйругын jаба коктоп, jарлыкчы дарлыктаган (Т. Акулова). ‘Пришив на воротник пальто маленький камушек с отверстием, хвост колонка, предсказатель предсказывал’ (АРС, 2018, с. 759).
Стереотипы из охотничьего лексикона могли переходить в песенный фольклор, где с образом колонка сравнивается шаман: Сарас акды узе тепкен / Сары уку ол jаман. / Сары мал-ды узе тайган / Сай мац акту кам jаман (ААК, 1972, с. 172). ‘Колонков всех истребившая / Рыжая сова плохая. / Рыжий скот весь в жертву принесший / В сплошном халате- мандьяке шаман плохой’.
Сузар [ suzar ] - ‘куница’ ( лат. Martes (Martes) foina ); ‘норка’ ( Mustela vison Brisson ).
В Горном Алтае водится каменная куница ( Martes (Martes) foina) , или белодушка. Это небольшой зверек, размером со среднюю домашнюю кошку.
В алтайском литературном языке лексема сузар имеет значение ‘куница’ (АРС, 2018, с. 610), в диалектах (туб. и кум.) ‘куница’ - аас (РТС, 2019, с. 112). Этимологическую форму слова сузар А. М. Щербак представил в виде * сацсар ; ср. монг. сусар ; маньч. харса ; тунг. харса ( н ); тур. сансар ; узб. савсар ; уйг. соса(р ); чув. сасар [Щербак, 1961, с. 144].
В народной поэзии кунице приписываются такие оценочные характеристики, как сурлу ‘видный, красивый’: Сурлу алу aw - суузар, / Нени ле ол jyдaр: / Кокыс болзын, балыкты, / Кужул, момон, чычканды (КТ, AJA, с. 15). ‘Красивый пушной зверь - куница, / Всякое она поглощает: / Хоть жука, рыбу, крысу, крота, мыша’.
Токтонок [ toqtonoq ] - ‘ласка’ (лат. Mustela vulgaris ). В алтайском литературном языке зафиксирована лексема токтонок ‘ласка’ (АРС, 2018, с. 683). Диалектные варианты слова: тоцнас (кум.) (РКС, 2021, с. 145), токпозок [Баскаков, 1972, с. 254], тоцынтос (туб.) (РТС, 2019, с. 114), тоцундас ‘колонок’ (чалк.) [Баскаков, 1985, с. 206]. По народной этимологии, зооним токтонок происходит от слова токтобос ‘животное, непрекращающее бегать’. Как утверждают охотники, этот маленький зверек очень быстрый и непоседливый. Если ласка появится возле человеческого жилища, то ее кормят, так как она охотится на мышей.
Согласно мифу «О ласке - токтонок», ласка - мудрое животное. Ласка ( токтонок ) предложила всем собравшимся животным сделать в году 12 месяцев, а в месяце 30 дней, и все согласились с ее мудрым предложением: «Ласка… возбужденно заговорила: “Так дело не пойдет! Уж слишком долгим будет год, в сто лет. Ведь ни один зверь не сможет прожить свой век! Не лучше ли сделать в году двенадцать месяцев, а в месяце тридцать дней” <...> Наконец-то установили они счет времени. Теперь каждый из них сможет считать свои годы, месяцы и дни, которые предложила на собрании ласка» (МА, 2022, с. 153).
В детском стихе К. Тепукова выделены оценочные признаки ласки ‘беспокойная’, ‘гибкая’: Токтомыр jок токтонок - / Ээлгир, эпчил акычак. / Ого корд калазак / Эмеш ноjо, jaрбынчaк (КТ, AJA, с. 16). ‘Беспокойная ласка - / Гибкий, ловкий зверёк. / По сравнению с ней, колонок / Немного упрямый, обидчивый’.
Заключение
Таким образом, большинство лексем, обозначающих представителей класса млекопитающих, семейства куньих, относятся к общетюркскому пласту лексики: это агас ‘горностай’, сузар ‘куница’, киш ‘соболь’, борсык ‘барсук’, кузен ‘хорёк’, jеекен ‘росомаха’, сарас ‘колонок’. Некоторые из зоонимов возникли в качестве эвфемизмов в речи охотников, например, jоонмойын ‘хорёк’.
В языковой картине мира алтайцев зоонимы-куньи связаны с мифологическими, обрядовыми и охотничьими традициями народа. Материал, выявленный в различных фольклорных и художественных текстах, показал преобладание информации о денотативных признаках куньих, которые обращают внимание на их окрас, строение тела, место обитания, повадки, а также на ценность их меха и использование их в рукоделии и шитье национальной одежды. Фольклорные тексты отражают этническую специфику мифологического восприятия куньих, согласно которому одни животные (горностай) созданы божеством Верхнего мира, а другие (выдра, соболь, колонок) - божеством Нижнего мира. По отношению к этим зверькам существовали определенные правила поведения во время охоты, в связи с чем в языке охотников с помощью таких языковых средств объективации концептов, как метафора и метонимия, развилась система эвфемизмов. Некоторые представители млекопитающих вошли в языковую культуру алтайцев и употребляются в системе образных средств их языка. Они участвуют в концептуализации образа человека: обозначают некоторые физические (красота - соболь), морально-этические (хватовство и медлительность - росомаха) и интеллектуальные (глупость, честность, доброта - барсук, мудрость - ласка) качества человека.
Список литературы Животные семейства куньих в языковой картине мира алтайцев
- Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев. Репр. изд. Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1994. 152 c.
- Баскаков Н. А. Диалект кумандинцев (куманды-кижи): Граммат. очерк, тексты, пер., слов. / Ин-т языкознания АН СССР. М.: Наука, 1972. 279 с.
- Баскаков Н. А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка: диалект лебединских та тарчалканцев (куу-кижи): Граммат. очерк, тексты, пер., слов. / Отв. ред. К. М. Мусаев; Ин-т языкознания АН СССР. М.: Наука, 1985. 231 с.
- Ерленбаева Н. В. Названия птиц, мотивированные характерными действиями и поведением птиц, в алтайском языке и его диалектах // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2018. № 3 (23). С. 30–32.
- Красильникова П. Ю. Соотношение коннотативного и денотативного компонентов в семантике некоторых групп абстрактной лексики и в семантике лексем тематической группы зоонимов (на примере зоонима «корова») // Преподаватель. XXI век. 2020. № 2-2. С. 359–370.
- Кучин А. П. Флора и фауна Алтая: монография. Горно-Алтайск: [б. и.], 2001. 264 с.
- Ойноткинова Н. Р. Коннотативные значения зоонимов, обозначающих диких животных, в алтайском языке // Эпосоведение. 2023а. № 4. С. 76–87.
- Ойноткинова Н. Р. Представления о выдре в языке и фольклоре алтайцев // Традиционная культура. 2023б. № 4. С. 91–98.
- Потапов Л. П. Охотничьи поверья и обряды у алтайских турков // Культура и письменность Востока. Баку: Изд. В. Ц. К. Н. Т. А, 1929. Кн. 5. С. 123–149.
- СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / Э. Р. Тени- шев, Г. Ф. Благова, И. Г. Добродомов, А. В. Дыбо, И. В. Кормушин, Л. С. Левитская, О. А. Мудрак, К. М. Мусаев. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2001. 822 с.
- Тыбыкова Л. Н. Символика красоты в алтайских зооморфизмах // Этнокультурное наследие народов Алтая: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летнему юбилею НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова. Горно-Алтайск, 2022. С. 339–353.
- Щербак А. М. Названия диких и домашних животных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 82–172.
- Яимова Н. А. Табуированная лексика и эвфемизмы в алтайском языке. Горно-Алтайск: Горно-Алт. тип., 1990. 169 с.