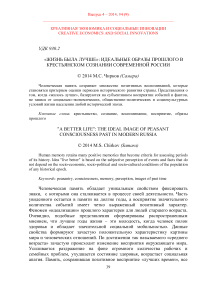«Жизнь была лучше»: идеальные образы прошлого в крестьянском сознании современной России
Автор: Чирков Михаил Сергеевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социальные инновации в культурном процессе
Статья в выпуске: 4 (9) т.4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Человеческая память сохраняет множество позитивных воспоминаний, которые становятся критерием оценки периодов исторического развития страны. Представления о том, когда «жилось лучше», базируются на субъективном восприятии событий и фактов, не завися от социально-экономических, общественно-политических и социокультурных условий жизни населения любой исторической эпохи.
Крестьянство, сознание, воспоминание, восприятие, образы прошлого
Короткий адрес: https://sciup.org/14239002
IDR: 14239002 | УДК: 930.2
Текст научной статьи «Жизнь была лучше»: идеальные образы прошлого в крестьянском сознании современной России
Человеческая память обладает уникальным свойством фиксировать знаки, с которыми она сталкивается в процессе своей деятельности. Часть увиденного остается в памяти на долгие годы, а восприятие значительного количества событий имеет четко выраженный позитивный характер. Феномен «идеализации» прошлого характерен для людей старшего возраста. Очевидно, подобные представления сформированы распространенным мнением, что лучшие годы жизни – это молодость, когда человек полон здоровья и обладает значительной социальной мобильностью. Данные свойства формируют зачастую положительную характеристику картины мира и человеческих отношений. По достижении так называемого «среднего возраста» зачастую происходит изменение восприятия окружающего мира. Усиливается раздражение на фоне огромного количества рабочих и семейных проблем, ухудшается состояние здоровья, возрастает социальная апатия. Память, сохранившая позитивное восприятие «лучших времен», все
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS чаще начинает напоминать о них носителю. Образы прошлого, таким образом, могут получать характеристики идеального. Отдельные периоды исторического развития нашей страны также могут трактоваться людьми старшего поколения в соответствии с представлениями о лучших или худших «временах».
В отечественной истории период второй половины 1960-х – начала 1980х годов традиционно носит название «эпоха застоя». Эта оценка уровня социально-экономического и общественно-политического развития появилась в начале «перестройки» (вторая половина 1980-х годов) и надолго укоренились в сознании десятков миллионов россиян. Однако на фоне дальнейшего ухудшения экономического положения страны, падения жизненного уровня и даже обнищания значительной массы населения, особенно в первой половине 1990-х годов, изменились общественные настроения. Ныне значительное число россиян, чья сознательная жизнь и активная деятельность захватила период «застоя», убеждены в позитивном характере тенденций, преобладавших в развитии советского общества обозначенного периода. Это демонстрируют не только результаты социологических опросов, но и воспоминания, размышления и оценки, зафиксированные многочисленными исследователями исторической эпохи.
Особое место в ряду таких оценок занимают мнения жителей отечественной деревни. Сельское хозяйство испытало, как ни одна другая отрасль народного хозяйства, всю тяжесть «великих переломов», перегибов, «волюнтаристских» и пр. методов советского руководства. Оценки и воспоминания российских крестьян заслуживают особого уважения, так как идут от людей традиционного уклада и духовных ценностей; работников, которые, претерпевая многие лишения, своим тяжелейшим трудом создавали материальное благосостояние страны.
Подавляющее число сельских жителей оценивают процессы, происходившие в общественно-политической жизни страны, в общем, и в развитии отечественной деревни в частности, достаточно позитивно. Очевидно, что подобные взгляды сформировались на фоне экономического положения крестьянства, контрастирующего со «сталинщиной» или с хрущевским «славным десятилетием», когда село являлось либо источником выкачивания людских и материальных ресурсов, либо представляло собой полигон для разного рода экспериментов ради удовлетворения личных амбиций руководителей страны. Положение российского крестьянства изменилось к концу 1960-х годов значительно. Оно стало забывать, что такое голод, тяжелый труд, бесконечные унижения со стороны властей. Продолжительность рабочей недели в колхозах и совхозах официально составляла 41 час, но и это время зачастую не вырабатывалось [5, C. 681]. Если в период 1930-1950-х годов показателем богатства крестьянина 40
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS главным образом являлись приусадебный участок и домашний скот, то, начиная с конца 1960-х годов, на первый план выдвинулись деньги, телевизор, мебель и пр. За свой труд сельские работники стали получать гарантированную заработную плату, средний размер которой почти сравнялся со средним размером зарплаты промышленных рабочих. Так, в 1989 году средняя заработная плата рабочих и служащих в промышленности составляла 275,2 рубля, работников совхозов – 262,5 рубля, а оплата труда колхозников – 221,3 рубля в месяц. Дополнительно к зарплате сельские жители в большинстве своем получали и доходы от ведения личных приусадебных хозяйств. По данным статистики, в 1989 году по СССР в целом средний доход семьи колхозника от личного подсобного хозяйства достигал 1514 рублей, что составляло 24,9 % от ее совокупного денежного дохода [6, C. 78,82,112,374]. Каждый крестьянин был охвачен системами пенсионного обеспечения и социального страхования, пользовался другими благами из общественных фондов потребления. Практически вся сельская местность в России была к этому времени электрифицирована.
Однако состояние аграрного сектора в Советской России 1970-х – 1980-х гг. было крайне противоречивым. С одной стороны, в стране были достигнуты значительные объемы производства сельскохозяйственных продуктов, вполне сопоставимые с аналогичными показателями более развитых государств. Впервые в истории денежные доходы сельского населения сравнялись с доходами населения городского. Отставка Н.С.Хрущева расценивалась крестьянами как весьма положительный факт: «Хрущева сместили, тут жизнь пошла. Налоги сняли, хлеба досыта в магазине, поросяток стали резать себе» – вспоминали колхозники [1, C.224]. «Брежневский» период практически все как один расценивают как остановку после тяжелого забега: «легче дышалось», «при Брежневе мы дыхнули», «При Брежневе еще вздохнули, воспрянули» и пр. [1, C. 310]. Период второй половины 1960-х – начала 1980-х годов в глазах крестьян оказался в несомненном выигрыше по сравнению со сталинским и ассоциировался с веселой вольготной жизнью: «Он (Сталин – М.Ч.) умер, как мы плакали! Мы думали, что жизнь кончается. Брежнев – вот о ком плакать надо было. Палками колбаса... Гулянки какие были, организации гуляли. Выйдешь – отсель гармонь, песняка, отседа – гармонь, песняка; контора гуляет, райсоюз гуляет, райисполком гуляет, райком гуляет, да ты чего? Совхоз гуляет! А еще чегой-то его обо...ли (Брежнева – М.Ч.)! Дедушка Ленька делал хорошо!» [1, C. 366]. Представители верховной власти в России в зависимости от их политики в отношении деревни всегда удостаивалась либо презрительного («Микита»), либо ласкового отношения («Ленька»).
Крестьяне считали, что в «застойные» годы между ними и властью был достигнут компромисс, который был следующим образом охарактеризован: 41
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
«В 70-е годы дали свободу крестьянину, возможность работать на себя и на государство» [1, C. 396]. Преобладают представления о бесконфликтности того времени. Многими крестьянами приводятся оценки психологической атмосферы. Тогда жилось «лучше, веселее, спокойнее, хотя, может, имущества всякого было поменьше, чем сейчас, но отношения между людьми были лучше, уверенность в будущем была, а сейчас наперед ничего не скажешь – что будет». Иными словами, оценки настоящего проигрывают оценкам «эпохи застоя»: «тогда всем было хорошо, а сейчас только избранным», «мы жили не хуже коммунистов, не ходили все побираться». Воспоминания о периоде конца 1960-х – начале 1980-х годов можно рассматривать как иллюстрацию сытой и достойной жизни: «при Брежневе зарплата была человеческая, и мясо лежало, и колбаса и импорт», «все стоило копейки и было доступно», «при Брежневе хоть и хапали, да нам давали», «я на свои 90 рублей сколько мог колбасы по 2.20 купить». Отношение тогдашнего центрального и местного руководства к проблемам сельского хозяйства воспринимается как абсолютно противоположное нынешнего: «раньше о сельском хозяйстве заботились». Очевидно с этим и был связан достаточно высокий процент избирателей, голосовавших на президентских выборах 1996 и 2000 годов за лидера коммунистической партии.
Вместе с тем, уровень притязаний крестьян не представлялся достаточно высоким. Для них главное – обеспечить минимум, при котором можно было бы прожить без страха за будущее: «было бы во что детей одеть и отложить на черный день», «при социализме о куске хлеба не беспокоились» [2, C. 359382]. В этих фразах слились воедино и опасения о возвращении «сталинских времен», и многолетняя советская пропаганда аскетизма и воздержания в быту, и желание облегчить участь собственных детей. Опросы сельских жителей показали, что большинство не хотели, чтобы их дети избрали профессию родителей. «Мы в земле да навозе весь свой век ковырялись, пусть хоть у вас жизнь культурная будет»; «Мы всю жизнь в деревне грязь топтали, ничего, кроме работы, не зная, так хоть вы-то поживите по-человечески» (из высказываний родителей Кировской области) [3, C. 4]. В деревне высоко оценивали городскую прописку, считая, что она служит средством для улучшения условий учебы, работы, жизни. Таким образом, сами крестьяне наносят первый удар по идиллической картине недавнего прошлого. Ко всему прочему, здесь срабатывает механизм психологической защиты – свойства памяти стирать многие негативные воспоминания, оставляя яркими лишь воспоминания положительные. Начиная глубоко копаться в памяти, крестьяне выуживают оттуда многое, что не укладывается в образ идеального прошлого. Выясняется, что социальный статус сельского жителя крайне невысок: «крестьяне – рабы», «крестьянин – рабочая 42
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS скотинка», «жизнь крестьян всегда была трудной, крестьян всегда держали в черном теле, обирали и обирают, лишали самостоятельности». Отсюда и многозначительный вывод: «детям решать, как жить, но так, как мы – не хотели бы».
Во многом проблема низкого общественного статуса – это проблема социально-бытовых различий между городом и деревней. Не углубляясь в ее истоки, можно констатировать (и это подтверждают сами крестьяне): материальная база располагавшихся на селе учреждений здравоохранения, образования, культуры была на порядок хуже, чем в городах. Сельские жители были фактически лишены настоящего бытового обслуживания. Об этом говорили сами крестьяне публицисты еще в 1970-е годы. Вот как писала о социальных проблемах своего села председатель колхоза из Кировской области Г. Махнева: «Технику ремонтируем под открытым небом. Восьмилетняя школа на грани закрытия. Клуб из-за отсутствия работника бездействует, по той же причине не работает магазин. Жилья катастрофически не хватает, а то, что есть, неблагоустроенное. Людьми, покидающими насиженные места, движет ощущение социальной несправедливости» [8, C. 6]. К концу 1970-х годов более 50 % жилищного фонда в сельской местности находилось в аварийном состоянии. Например, из Калужской области работницы колхоза писали в газету «Сельская жизнь»: «Мы не имеем выходных дней и отпусков. Так работать очень тяжело, ведь нельзя человеку работать круглый год и ни одного дня отдыха. Машину и ту останавливают на ремонт, а у нас руки не стальные. Мы сами подвозим корм, доим вручную. Нашему правлению не хватает за год времени отремонтировать поилки, приходится самим поить коров» [7, C. 16]. Об асфальтировании улиц в большинстве сел и деревень не было и речи. Сельские жители чаще всего не могли и мечтать о таком благе цивилизации, как водопровод, центральное отопление и горячая вода. «Деревенские люди, приезжая к друзьям или родным в город, видят сверкающую чистотой кухню, газ, горячую воду, все другие удобства, сравнивают все это с тем, что имеют и, конечно, делают выводы. И выводы не в пользу села», - говорилось в письме А. Осадчих, директора совхоза из Вологодской области, в «Литературную газету» [4, C. 8]. В социально-бытовой отсталости и необустроенности российской деревни мог убедиться каждый гражданин СССР.
Впрочем, бесконечные сравнения по принципу «когда жилось лучше» лишены смысла. Как было сказано выше, ни социальные, ни экономические, ни культурные достижения страны не могут выступать в качестве критерия определения «лучшей жизни». Единственным критерием здесь является субъективное восприятие человека, зависящее от возраста, социального
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS статуса и собственных убеждений, сформировавшихся в процессе деятельности и взаимодействия с другими членами общества.
Список литературы «Жизнь была лучше»: идеальные образы прошлого в крестьянском сознании современной России
- Голоса крестьян: сельская Россия ХХ века в крестьянских мемуарах. М.: Издательство «Аспект Пресс», 1996. 314 с.
- Кознова И.Е. Традиции и новации в поведении современных крестьян//Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: сб. статей/Под ред. М.Б. Олкотт, В. Тишкова и А. Малашенко. М.: Издательство Московского Центр Карнеги, 1997. С.359-382.
- Комсомольская правда. 1988. 1 марта.
- Литературная газета. 1978. 26 апреля.
- Народное хозяйство СССР в 1990 году. М: Издательство «Финансы и статистика», 1991. 752 с.
- Народное хозяйство СССР в 1989 г. М.: Издательство «Финансы и статистика», 1990. 644 с.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 591. Оп. 1. Д. 111.
- Сельская жизнь. 1989. 22 марта.