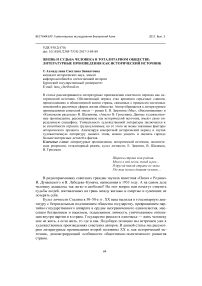Жизнь и судьба человека в тоталитарном обществе: литературные произведения как исторический источник
Автор: Ахмадулина Светлана Зиннатовна
Рубрика: Над памятью не властны времена: история политических репрессий
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются литературные произведения советского периода как исторический источник. Обозначенный период стал временем серьезных сдвигов, происходивших в общественной жизни страны, связанных с процессом системных изменений в различных сферах жизни общества. Автор обращается к литературным произведениям советской эпохи - роман Е. И. Замятина «Мы», «Воспоминания» и «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Авель» В. Гроссмана. Данные художественные произведения, рассматриваемые как исторический источник, имеют свою определенную специфику. Уникальность художественной литературы заключается в ее способности отразить трудноуловимые, но от этого не менее значимые факторы исторического процесса. Анализируя конкретный исторический период и изучая художественную литературу данного этапа, можно увидеть и оценить гораздо больше интересных деталей ифактов.
Итературные произведения, исторический источник, политические репрессии, тоталитарный режим, культ личности, замятин, шаламов, гроссман
Короткий адрес: https://sciup.org/148315797
IDR: 148315797 | УДК: 930.2(470) | DOI: 10.18101/2305-753X-2017-3-84-89
Текст научной статьи Жизнь и судьба человека в тоталитарном обществе: литературные произведения как исторический источник
Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек... Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек…
В радиоприемниках советских граждан звучала известная «Песня о Родине» И. Дунаевского и В. Лебедева–Кумача, написанная в 1933 году. А на самом деле человеку дышалось так легко и свободно? На этот вопрос нам помогут ответить судьбы людей, поставленных на грань между жизнью и смертью и сумевших не потерять себя.
Культ личности Сталина в 30–50-е гг. ХХ века вылился в тоталитарную диктатуру с безраздельным подчинением общества государству, превращением партийно-государственного аппарата в орудие неограниченного единовластия, массовым беззаконием и насилием, подавлением личности, уничтожением оппозиции внутри партии и в стране. Государство решало в одночасье — жить человеку или не жить, а если жить, то где и как. Подобную позицию мы встречаем уже в художественных произведениях советских авторов. В данной статье мы рассмотрим литературные произведения второй половины ХХ в. как исторический источник, демонстрирующий особенности общественно-политического развития страны.
Историческим источником принято называть все то, что может дать какую-либо информацию о прошлом. Под историческими источниками понимаются «все остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, отражающие реальные явления общественной жизни и закономерности развития человеческого общества. По сути дела, это самые разнообразные продукты и следы деятельности людей: предметы материальной культуры, памятники письменности, идеологии, нравов, обычаев, языка и т. д.» [4, с. 64-65]. Любой источник субъективен, т. к. отражает прошлое в форме личных, субъективных образов. Вместе с тем он выступает формой отражения объективного мира, исторических эпох, различных стран и народов в их реальном историческом бытии. Исторические источники — основа познания исторической действительности, которая дает возможность реконструировать события и явления социальной жизни прошлого [6].
Художественные произведения, рассматриваемые как исторический источник, в данном контексте имеют свою определенную специфику. Уникальность художественной литературы заключается в ее способности отразить трудноуловимые, но от этого не менее значимые факторы исторического процесса. Анализируя конкретный исторический период и изучая художественную литературу этого времени, можно увидеть и оценить гораздо больше интересных деталей и фактов. Проявление деспотической власти было предопределено установлением диктатуры пролетариата, наличием единственной партии, ликвидацией прав и свобод личности.
Конец 19-начало 20-го столетия - время серьезных изменений, которые охватили всю европейскую культуру, являясь следствием разочарования в прежних идеалах и ощущением приближения крушения существующей общественнополитической системы. С другой стороны, этот кризис породил великую эпоху — эпоху русского культурного ренессанса начала 20-го столетия — одну «из самых утонченных эпох в истории русской культуры». Это был период творческого подъема поэзии и философии. Апокалипсические настроения, теософия захватывали умы людей. Широкое распространение получили мистические настроения как положительные, так и отрицательные. В русском обществе все чаще звучали предчувствия бед и катастроф, надвигающихся на Россию и весь мир.
В рассматриваемый период времени большевистская партия полностью установила контроль над советской литературой и искусством, которые становятся инструментом коммунистической идеологии и пропаганды. Их основное предназначение — внедрение в сознание людей марксистско-ленинских идей, убеждение их в преимуществах социалистического общежития, в непогрешимой мудрости партийных вождей. Проводником подобной политики становится Пролеткульт - союз пролетарских культурно-просветительских обществ, члены которого особенно активно призывали к революционному низложению старых форм в искусстве, бурному натиску новых идей и настроений.
Обратимся к роману Е. И. Замятина «Мы», который был написан в 1921 г. в необычном жанре «книги-утопии», модном в этот период. Автор в художественной форме попытался изучить и разоблачить губительность тоталитарной системы для личности человека. Под названием романа «Мы» автор понимал коллективизм большевиков в России, при котором ценность отдельной личности снижалась до минимума. Замятин перенес в своем романе Россию на тысячу лет вперед. Ведущей темой этого произведения является драматическая судьба личности в условиях тоталитарного общественного устройства. В категоричности «мы» звучит строгий запрет на «я». В романе описывается много характерных черт тоталитарной структуры. К примеру, об общей идеологии Замятин пишет сразу же в первой главе: «Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!». Символ тоталитарного государства здесь — единое Государство, на благо которого трудятся все «нумера», Благодетель — неоспоримый и неприкосновенный авторитет в Едином Государстве, символ русского правителя. В Едином Государстве царит всеобщее «математически безошибочное счастье». Его обеспечивает само Единое Государство. Но счастье, которое оно дает людям, — лишь материальное, а главное — в общих, одинаковых и обязательных для всех формах. Каждый получает сытость, покой, занятие по способностям, полное удовлетворение всех физических потребностей — и ради этого должен отказаться от всего, что отличает его от других: от живых чувств, собственных стремлений, естественных привязанностей и собственных побуждений. Словом, от собственной личности. Бессменность и неприкосновенность правителя, свойственные тоталитарному режиму, который предвидит Замятин, находят свое отражение и в романе.
В «Воспоминаниях» и «Колымских рассказах» В. Шаламова — произведениях, которые так же являются ценнейшими историческими источниками, — видны все характеристики советского общества 1920–1950-х гг. «Лагерная тема» — основной мотив произведений Варлама Шаламова, уничтожение человека государством — главный вопрос, который интересовал его всю жизнь. Писатель провел долгие годы в заключении, прошел через унижения, голод, побои, что не могло не отразиться на его творчестве. Он считал своим долгом написать о Колыме, обо всех тех лагерях, где отбывал срок, так, чтобы о них запомнили навсегда.
В своих воспоминаниях Шаламов отразил «несколько своих жизней»: «Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. «Подземный» опыт не увеличивает общий опыт жизни — «там» все масштабы смещены, и знания, приобретенные «там», для «вольной жизни» не годятся. Мне не трудно вернуться к ощущениям детских лет. Колыму же я никогда не забуду. И все же это жизни разные. «Там» я не всегда писал стихи. Мне приходилось выбирать между жизнью и стихами и делать выбор (всегда!) в пользу жизни!» [7, с. 3–4]. Сын слепого священника, ходившего сражаться за Бога в постреволюционный период, когда в большой моде были антирелигиозные диспуты. «Сам я лишен религиозного чувства. Но отец мой был верующим человеком и эти выступления считал своим долгом, нравственной обязанностью. Я водил его под руку как поводырь. И учился крепости душевной…» [7, с. 4].
Бурлящей атмосферой двадцатых годов воспитана была его резкость оценок и суждений. «В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг» [7, с. 28]. Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечные споры буквально обо всем: «и о том, будут ли духи при коммунизме, фабрика Брокара стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака. Обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство? Нужны ли адвокаты при новом праве? Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура? И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой» [7, с. 129].
В 1929 г. В. Шаламов был осужден «как опасный элемент» и заключен в Бутырскую тюрьму. «Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье» [7, с. 138]. Москва 1930-х гг. была городом страшным. Подполье 20-х гг. столь яркое, забилось в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства. «Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, отделы рабочего снабжения при заводах, мрачные улицы. На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Партмаксимум — но закрытые распределители. Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год — это был голод в Поволжье, 33-й — был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва?» [7, с. 139–140].
За одно десятилетие новой, советской истории страны изменился ее облик, проблемы с которыми столкнулось правительство, были порождены идеологическими постулатами И. В. Сталина. «Догнать и перегнать», «Время, вперед» — пожалуй одни из самых бессовестных лозунгов тех лет. Беломорканал, канал Москва–Волга, коллективизация, аресты в деревнях. В январе 1937 г. Варлам Шаламов был арестован, осужден особым совещанием на пять лет исправительно-трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме.
В воспоминаниях о Колыме, в этой скорбной истории из «Мертвого дома» В. Шаламов говорит об опыте, разделенном миллионами людей. Колымский Освенцим навсегда изменил жизнь писателя.
В «Авеле» Василия Гроссмана один из персонажей, оправдывая свое участие в атомной бомбардировке, рассуждает: «Знаешь, техника освобождает нас от моральной ответственности. Раньше ты разбивал голову врагу дубинкой и тебя обдавало его мозгом — вот тогда ты отвечал; потом расстояние стало все увеличиваться — на длину копья, полета стрелы, и ты только слышал его крик, потом он отдалился на выстрел из пищали, мушкета и ты уже не слышал его стонов, только видел, как он падает — пестрый человечек, потом точечка, потом не стал виден не только человек, но даже линкор, по которому бьешь… кому нести ответственность? Тот, кто видит врага, — наблюдатель, он не стреляет, а тот, кто стреляет, — огневик, — тот не видит, у него только данные — цифры, за что же ему отвечать?» [3, с. 211]. В период массовых политических репрессий погибли миллионы россиян, для руководства страны это были лишь цифры, необходимые для корректировки вектора ее развития. Это были безымянные номера, за которыми стояли жизни и судьбы людей.
В заключение отметим, что при рассмотрении художественной литературы как исторического источника, необходимо учитывать ее специфические особенности. Помимо исторической эпохи, события произведений литературы отражают личное, субъективное мнение автора, его убеждения. Важным в изучении ху- дожественной литературы выступает то, что читатель может наблюдать эмоциональную сторону события, которые описывает автор, что зачастую невозможно воспринять через другие письменные источники. Рассмотренные в статье в качестве исторического источника произведения советских авторов Е. И. Замятина, В. Шаламова, Гроссмана дают общее представление о формировании и развитии советской системы управления государством, начиная с 1920-х гг. сквозь призму жизни и судьбы человека.
Список литературы Жизнь и судьба человека в тоталитарном обществе: литературные произведения как исторический источник
- Гроссман В. С. Повести и рассказы. Москва, 1950. 490 с.
- Гроссман В. С. Жизнь и судьба. Роман. Москва, 1988. 832 с.
- Гроссман В. С. Несколько печальныхдней: повести и рассказы. Москва, 1989. 432 с.
- Дербов Л. А. Введениевизучение истории. Москва, 1981. С. 64-65.
- Замятин Е. Мы: Текст и материалы к творческой истории романа / сост., подгот. текста, публ., коммент. и статьи М. Любимовой и Дж. Куртис. Санкт-Петербург, 2011. 608 с.
- Ковалева А. Ю. Произведения художественной литературы начала ХХ века как исторический источник. URL: http://www.urokiistorii.ru/3141 (дата обращения: 23.03.2017 г.).
- Шаламов В. Т. Воспоминания. Москва, 2001. 384 с. URL: https://librusec 8. Шаламов В. Т. Колымскиерассказы. Москва, 2008. 656 с.