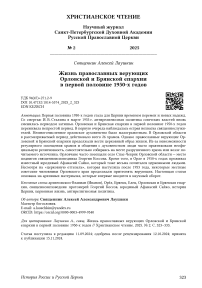Жизнь православных верующих Орловской и Брянской епархии в первой половине 1950‑х годов
Автор: Священник Алексей Лаушкин
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Первая половина 1950‑х годов стала для Церкви временем перемен и новых надежд. Со смертью И. В. Сталина в марте 1953 г. антирелигиозная политика советских властей вновь сменилась периодом затишья. Орловская и Брянская епархия в первой половине 1950‑х годов переживала непростой период. В первую очередь наблюдалась острая нехватка священнослужителей. Немногочисленное орловское духовенство было малограмотным. В Орловской области в рассматриваемый период действовало всего 26 храмов. Однако православные верующие Орловской и Брянской епархии продолжали вести церковный образ жизни. Из-за невозможности регулярного посещения храмов и общения с духовенством люди часто практиковали неофициальную религиозность, самостоятельно собираясь на месте разрушенного храма или возле почитаемого источника. Орловчане часто посещали село СпасЧекряк Орловской области — место подвигов священноисповедника Георгия Коссова. Кроме того, в Орле в 1950‑х годах проживал известный юродивый Афанасий Сайко, который тоже весьма почитался церковными людьми. Несмотря на «церковную оттепель», которая наступила после 1953 года, некоторые местные советские чиновники Орловского края продолжали притеснять верующих. Настоящая статья основана на архивных материалах, которые впервые вводятся в научный оборот.
Архиепископ Флавиан (Иванов), Орёл, Брянск, Елец, Орловская и Брянская епархия, священноисповедник протоиерей Георгий Коссов, юродивый Афанасий Сайко, история Церкви, церковная жизнь, антирелигиозная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/140309620
IDR: 140309620 | УДК: 94(47)+271.2-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_323
Текст научной статьи Жизнь православных верующих Орловской и Брянской епархии в первой половине 1950‑х годов
15.11.2024.
В 1-й пол. 1950-х гг. территория Орловской и Брянской епархии была весьма обширной. Она включала в себя не только Орловскую и Брянскую области, но еще и часть современной Липецкой области с городами Елец и Задонск. Несмотря на активную антирелигиозную политику Советского государства, значительная часть населения обозначенных областей продолжала исповедовать православную веру.
В октябре 1949 г. на Орловскую кафедру был назначен еп. Флавиан (Иванов). Сохранилось свидетельство уполномоченного Совета по Орловской области Н. Ф. Зверева с подробностями прибытия владыки Флавиана в Орловскую область: «Епископ Флавиан приехал в мягком вагоне, специально оплаченном только для него и его свиты, состоящей из 4-х человек. За вагон было уплачено 4800 рублей» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 500. Л. 70).
Сразу же после прибытия в Орёл архипастырь посетил уполномоченного. Иерарх показался Н. Ф. Звереву более живым и подвижным человеком, чем его предшественник еп. Николай (Чуфаровский) (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 500. Л. 58).
В 1950 г. в Орловской области продолжало действовать 26 храмов (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 8). При этом церковь свт. Николая Чудотворца в с. Добрынь Кромского района Орловской области не функционировала из-за отсутствия священника (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 8).
Епископ Флавиан старался строго соблюдать требования советской власти. Иерарх разослал по епархии распоряжение, предписывающее совершать великое освящение воды в праздник Крещения Господня строго внутри храма (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 50. Л. 22). Освящение рек и колодцев строго запрещалось (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 50. Л. 22). В качестве исключения позволялось освятить воду возле церкви, если храмовое здание не вмещало всех верующих (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 50. Л. 22).
В Орловской и Брянской епархии, как и по всему СССР, советская власть пыталась ограничить деятельность Церкви исключительно богослужениями, которые могли совершаться только в зданиях храмов. Так, например, в пасхальные дни настоятелю Никитского храма г. Орла было сделано замечание за проведение крестных ходов вокруг храма (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 16). Уполномоченный Н. Ф. Зверев пригрозил настоятелю снятием с регистрации за нарушающую советское законодательство деятельность (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 16).
В июле 1950 г. за служение Всенощного бдения возле храма из-за большого количества прихожан был снят с регистрации настоятель Афанасьевского храма г. Орла свящ. Козьмодемьянский (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 22). После снятия с регистрации священник был отстранен от служения. Известно, что ему не удалось продолжить служение в соседних Тульской и Курской епархиях (см.: [Жарков, 2007, 173]).
В нач. 1950-х гг. в Афанасьевском храме г. Орла образовался подпольный женский монастырь, в котором состояли несколько десятков монахинь (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 10). В разговоре с уполномоченным Н. Ф. Зверевым еп. Флавиан высказывал предположение о наличии игумении, которая руководит организацией монастыря (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 10). Отмечалось, что богослужения в Афанасьевском храме имеют монашеские особенности (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 10). Сам факт скопления на приходе такого количества монашествующих вызывал серьезное беспокойство у уполномоченного. В разговоре с уполномоченным настоятель Афанасьевского храма свящ. Кирьянчук рассказывал: «Афанасьевскую церковь монашки считают своей вотчиной, унаследованной от бывшего монастыря, и полагают, что они имеют законное право распоряжаться всеми церковными делами» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 16).
Узнав о существовании монашеской общины при Афанасьевском храме, Н. Ф. Зверев заинтересовался вопросом пополнения монашеских рядов. В отчетных документах уполномоченного есть история 26-летней девушки Аллы Фёдоровой, которая хотела принять монашеский постриг. Примечательно, что отчим девушки был членом КПСС (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 17). Известно, что еще в 1947 г. из-за конфликта с отчимом Алла Фёдорова ушла из семьи (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256.
Л. 18). Какое-то время девушка пела на клиросе в орловской Никитской церкви, затем из-за жалоб прихожан на ее недостойное поведение была переведена еп. Флавианом в Афанасьевский храм (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 18). Однако и в Афанасьевском храме Алла Фёдорова не смогла устроиться. «Монашки обвинили ее во всех смертных грехах и добились изгнания Аллы из церкви. Алла осталась без работы и без средств к жизни. Рассказывая об этом, настоятель церкви и церковный староста ничего плохого не могли сказать об Алле. Напротив, они характеризовали ее как девушку тихую, скромную и послушную», — докладывал уполномоченный Н. Ф. Зверев (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 18). Уполномоченный отмечал, что девушка не испытывала какой-либо обиды на монашествующих и продолжила искать возможность принять монашеский постриг (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 18). Уполномоченный весьма был удивлен смирением этой девушки и высказывал недоумение, что потенциальная монашка вышла из семьи коммуниста (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 19). Однако о дальнейшей судьбе этой девушки в настоящее время ничего не известно. Эта история показывает, что интерес к монашеской жизни в Советском Союзе кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. встречался даже среди молодых людей, воспитанных в коммунистической семье.
Больше всего активного православного населения в Орловской области проживало в Ельце. Уполномоченный Н. Ф. Зверев докладывал: «Наиболее многочисленной и активной общиной является община Вознесенского собора в г. Ельце. Церковное здание собора вмещает более 5 тыс. человек, и в большие церковные праздники церковь бывает переполнена… Для города Ельца это количество молящихся составляет более высокий процент по сравнению с другими городами, даже по сравнению с гор. Орлом» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 51).
Известно, что особой любовью ельчан пользовался прот. Игнатий Кондратюк, который служил в елецком Казанском храме. Он часто проповедовал и торжественно совершал богослужения (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 51). Кроме того, о. Игнатий Кондратюк своих детей тоже воспитывал в православной вере (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 51). Многие жители Ельца видели в этом священнослужителе святого человека, посещали его богослужения и обращались к нему за исцелениями (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 51). Настоятель Вознесенского собора Ельца и благочинный Елецкого округа свящ. Валериан Маляровский жаловался уполномоченному Н. Ф. Звереву на прот. Игнатия Кондратюка, обвиняя его в том, что он ходит по городу в священническом облачении и благословляет людей на улицах (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 6). Епископ Флавиан также не поддерживал деятельность о. Игнатия Кондратюка. «Епископ проговорился, что он раньше сам выражал свое восхищение поведением и деятельностью Кондратюка... Теперь он осуждал Кондратюка и характеризовал его как фанатика… как человека, не согласного с политикой, проводимой патриархом», — писал Н. Ф. Зверев (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 5). Вероятно, владыка Флавиан не желал лишний раз раздражать представителей советской власти вызывающим поведением священнослужителей, поэтому и не поддерживал деятельность прот. Игнатия Кондратюка. Вместе с этим уполномоченный Н. Ф. Зверев полагал, что еп. Флавиан только для видимости не одобрял деятельность о. Игнатия Кондратюка, а по существу поддерживал активного священника (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 10).
В ноябре 1950 г. из психиатрической больницы был выписан юродивый А. А. Сайко. «Появление Сайко вызвало среди его поклонников большое возбуждение. За ним ходили по улицам, посещали его на квартире», — докладывал уполномоченный Н. Ф. Зверев (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 52). В декабре 1950 г. А. А. Сайко вновь был помещен в психиатрическую больницу. Духовная дочь орловского юродивого А. В. Дмитриевская просила выписать его из психиатрической больницы под ее опеку. Однако ей было отказано.
Сохранилась характеристика, данная А. А. Сайко главным врачом Орловской областной психоневрологической больницы А. Л. Кофман: «Ряд лиц местного населения считает больного прорицателем, святым, в связи с этим к больному на свидание большой наплыв граждан... Общителен, несколько манерен. Врача всегда приветствует… Охотно вступает в беседу, но речь носит характер словесной окрошки… Знает, что беседует с врачом, однако называет его различными именами… Окружающим предметам придает особое значение — больницу называет архиерейским домом. Галлюцинаций выявить не удается. Добродушен. Выполняет несложные работы, знает переплетное дело, охотно играет в оркестре на скрипке. На улице собирает мусор, стекла и складывает их в кучу или прячет в карманы одежды» (ГАОО. Ф. 3880. Оп. 1. Д. 3. Л. 50–51). Из приведенных слов можно понять, что особых психических расстройств у А. А. Сайко врачи не находили. Вероятно, советская власть опасалась самого факта скопления большого количества верующих возле юродивого и всячески пыталась изолировать старца от людей, «диагностировав» у него шизофрению и отправив на лечение в психиатрическую клинику. Однако даже в психбольницу к юродивому А. А. Сайко приходило столько людей, что это нередко мешало нормальной работе медицинского учреждения (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 52).
Ограничения советской властью деятельности Русской Православной Церкви провоцировали развитие неофициальной религиозности. В некоторых селах люди самостоятельно собирались в группы для совершения молитвы. Чаще всего это происходило на месте недействующего храма, часовни или возле почитаемого источника. Иногда верующие люди собирались для совершения молебнов на колхозных полях. В Орловской области такие молитвенные собрания происходили в селах Баранчик, Сретенье, Маховое, Становой Колодец, Луплено, Топки, Кошелёво и во многих других местах (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 41). Часто такие собрания состояли из большого количества людей (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 41).
Вследствие антирелигиозной политики советской власти все большую популярность получали самозванцы и самосвяты. По этому поводу владыка Флавиан писал: «Шатающиеся величают себя „хранителями веры“ и „истинно-православными хри-стианами“. В число таких „православных“ входят прежде всего монахи, монашки, запрещенные священники и мирские лица, величающие себя духовными. Они, не страшась гнева Божия, совершают все таинства и даже литургисают» (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 122. Л. 4). Больше всего самозванцев в то время было на территории Брянской области, которая также в то время входила в Орловскую и Брянскую епархию. Однако и в Орловской области можно было встретить самосвятов, которые предлагали верующим свои услуги.
Верующие Орловской области продолжали требовать открытия церквей. Так, в 1950 г. люди просили уполномоченного открыть храмы в Долгоруковском, Должанском, Красненском и Залегощенском районах области (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 41). Нередко верующие организовывались в целые группы и выезжали в Москву, чтобы на самом высоком уровне заявить о своих религиозных чувствах (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 41). Эти факты свидетельствуют о том, что, несмотря на атеистическую пропаганду, люди продолжали сохранять православную веру.
Финансово-хозяйственное состояние Орловской и Брянской епархии в то время находилось в критическом состоянии. Это видно из письменного обращения еп. Флавиана к патр. Алексию I: «С момента приезда в ноябре месяце 1949 года мне пришлось ознакомиться с денежно-хозяйственной епархиальной жизнью, которая была не в блестящем состоянии. Необходимые взносы на содержание Патриархии и епархиальные нужды вносились неисправно и не согласно утвержденным сметам» (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 113. Л. 16). Архипастырь писал о том, что принял епархию с пустой кассой, но в короткие сроки удалось найти необходимые средства, чтобы оплатить государственные налоги и выдать заработную плату всем работникам епархии (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 113. Л. 17). Иерарх докладывал патр. Алексию I, что приходы Орловской и Брянской епархии являются весьма бедными, поэтому просил понизить епархиальные взносы, отчисляемые в Патриархию (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 113. Л. 17).
Стоит отметить, что владыке удалось улучшить материальное состояние епархии. Об этом свидетельствует характеристика уполномоченного Н. Ф. Зверева: «Основным содержанием деятельности Флавиана, как управляющего епархией, являлось руководство финансово-хозяйственной жизнью приходов… Он добился значительного укрепления епархиального хозяйства. Орловско-Брянская епархия была при нем в числе первых по выполнению всех обязательств перед патриархией и неоднократно заслуживала выражения благодарности и одобрения от патриарха» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 120. Л. 79). Известно, что иерарх лично изучал материальные возможности каждого прихода и тщательно знакомился с отчетами настоятелей (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 49). Из приведенных слов можно сделать вывод, что еп. Флавиан смог не только вывести епархию из финансового кризиса, но и сделать ее образцовой с точки зрения хозяйственной деятельности.
Епископ Флавиан обратил внимание и на работу епархиальной свечной мастерской. Стоит отметить, что в 1950 г. удалось погасить все задолженности по налогам за производство и увеличить количество выпускаемых свечей (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 49). Если в предыдущие годы мастерская выпускала 4 тонны свечей в год, то в 1950 г. было выпущено 6 тонн (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 650. Л. 49).
Орловская и Брянская епархия в нач. 1950-х годов в лице еп. Флавиана принимала активное участие в пополнении коллекции возрожденного Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии был создан еще в 1871 г. и до 1917 г. назывался Церковно-археологическим музеем. В 1918 г. музей Академии был ликвидирован большевистским правительством (см. об этом: [Кирьянова, 2020, 940]). В ноябре 1950 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия I Церковно-археологический кабинет был вновь открыт (см.: [Кирьянова, 2020, 939]). В декабре 1950 г. исполняющий обязанности ректора МДА проф. В. С. Вертоградов направил благодарность епископу Орловскому и Брянскому Флавиану за девять старинных антиминсов, которые иерарх прислал для коллекции Церковно-археологического кабинета (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 113. Л. 1).
В 1951 г. в Покровском храме с. Большая Куликовка Орловской области на праздник Преображения Господня верующие столкнулись с ограничением непосредственно богослужебной деятельности Церкви. Во время литургии в храм зашли председатель колхоза и директор местной школы, которые стали переписывать всех присутствующих в церкви колхозников и школьников (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 36). В этот момент многие колхозники и школьники попытались спрятаться, чтобы не попасть в списки (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 36). После литургии председатель колхоза сделал выговор священнику за то, что богослужение проходило в рабочее время, а директор школы потребовал, чтобы школьников в храм больше не пускали (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 36). Священник, посетив уполномоченного, поднял вопрос об этой ситуации. Н. Ф. Зверев дал весьма размытый ответ. Чиновник указал священнику на недопустимость совершать богослужения в рабочее время (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 36). Относительно школьников на богослужении уполномоченный сообщил, что директор школы не может требовать от священника ограничить присутствие детей в храме (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 36). Признав правоту священника в части поднимаемых вопросов, Н. Ф. Зверев не предпринял каких-либо действий, способствующих разрешению этой ситуации.
Ограничение деятельности Церкви исключительно храмовыми богослужениями, которое предприняла советская власть, и повышение налогов на Церковь сильно ударили по материальному состоянию духовенства. Если раньше священника поддерживали требы, которые он совершал на домах у верующих, то теперь такая деятельность была запрещена. Священнику с. Большая Куликовка приходилось заниматься пчеловодством, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 41). Тяжелое материальное состояние духовенства не было особенностью только этого прихода. Как сообщает уполномоченный Н. Ф. Зверев в своем отчете, большинство сельских приходов находилось в таком же состоянии (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 777. Л. 41).
В 1950-е гг. из-за невозможности для многих верующих посетить храм стали особо популярны т.н. «святые колодцы». Люди стали устраивать к этим местам многочисленные групповые паломничества. Представители советской власти крайне не одобряли такие собрания. Наиболее известные колодцы Орловской области находились на территории Колпнянского и Должанского районов.
В 1952 г. по указанию обкома КПСС была создана специальная комиссия, которая должна была изучить обстановку возле этих колодцев (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 9). Сохранился отчет комиссии по итогам посещения колодца в дер. Андреевке Колпнянского района Орловской области: «Мы застали около колодца двух женщин. Одна из них в возрасте 50 лет, опрятно одетая, по-монашески повязанная платком, усердно молилась перед крестом. Вторая несколько моложе, лежала на боку на камнях и пристально вглядывалась в воду. Мы заговорили с этими женщинами, и они рассказали, что пришли помолиться и взять воды из „святого“ колодца. „Вода из святого колодца помогает от многих болезней...“, продолжали рассказывать наши собеседницы» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 9). Комиссия узнала, что Андреевский колодец получил известность еще в 1925 г., когда появилась легенда о найденной там иконе (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 9).
В дни церковных праздников к святым колодцам собиралось большое количество людей. Так, например, на Троицу к Андреевскому колодцу пришли на молитву 320 человек, среди которых около 60 человек были дети (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 11). Богослужения возле колодца проводил не имеющий какого-либо священного сана колхозник Иван Скукин, который надевал на себя подрясник и епитрахиль (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 11). Также Иван Скукин освящал воду в колодце (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 11). Собрания верующих возле колодцев являлись прямым следствием антирелигиозной политики советской власти, мешающей развитию нормальной религиозной жизни.
В 1952 г. православные верующие Орловской области продолжали ходатайствовать об открытии храмов в г. Ливны, в селах Ищеино Красненского района, Грунин-Воргол Становлянского района, Баранчик Должанского района, Мощёное Хотынец-кого района и Спас-Чекряк Болховского района (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1039. Л. 21). Однако ни одно ходатайство не было удовлетворено.
Особый интерес в данном контексте представляет с. Спас-Чекряк, известное как место служения священноисповедника Георгия Коссова. Протоиерей Георгий Коссов умер в 1928 г., и в начале 1950-х гг. от церкви, в которой он совершал свое служение, остались лишь одни развалины. Стоит отметить, что верующие обратились напрямую к патриарху с ходатайством о восстановлении храма в с. Спас-Чекряк. Патриарх Алексий I поинтересовался у еп. Флавиана состоянием храма и религиозной жизни села. Владыка Флавиан доложил патриарху следующее: «От церкви остались одни развалины. Могила отца Георгия находится под развалинами церкви, место которой определить невозможно. Четыре сына отца Георгия находятся, по всей видимости, в Москве. Одна жительница Чекряка и воспитанница вышеупомянутого приюта по имени Пелагея Сазонова и теперь ежегодно совершает в Болховском храме помин по отце Георгие. Имеются и другие почитательницы. Особенными считаются странница Анфиса, которая якобы его воспитанница. По словам отдельных лиц, Анфиса имеет пророческий дар. Вторая почитательница Рязанцева Анна и какая-то Михайлова» (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 145. Л. 5). Приют для сирот, который упоминает архипастырь, был открыт св. Георгием Коссовым. Вероятно, воспитанницы этого приюта и были преданными почитательницами о. Георгия Коссова после его кончины.
На 1 января 1953 г. в Орловской области служили 34 священника и 10 диаконов (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 46). Кадровая ситуация в Орловской и Брянской епархии в нач. 1950-х гг. оставалась в неудовлетворительном состоянии. По этому поводу уполномоченный Н. Ф. Зверев писал: «Недостаток кадров священнослужителей вынуждает епископа мириться с малограмотным духовенством и либерально относиться к своим подчиненным, нарушающим церковную дисциплину и допускающим неблаговидное поведение» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 47). В 1952 г. в селах Путимец Орловского района, Архарово Малоархангельского района и Плоское Свердловского района Орловской области храмы не действовали по причине отсутствия священников (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 32). Все священники, которые направлялись в эти храмы на служение, жаловались на бездоходность этих приходов и уезжали из этих мест (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 46). В то же время из других областей нередко приезжали молодые священники, что вызывало опасения у советских властей. Так, например, в 1952 г. в Вознесенский собор Ельца был назначен иером. Сергий (Петров), который приехал из Саратова (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 32). Это был молодой священнослужитель 27 лет, который закончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 32). Отец Сергий (Петров) произвел благоприятное впечатление на православных людей Ельца. В будущем иером. Сергий (Петров) станет митрополитом Одесским и Херсонским.
В 1953 г. еп. Флавиан освободил от должности священника елецкого Казанского храма прот. Игнатия Кондратюка. Отец Игнатий Кондратюк был весьма активным священником, однако часто высказывался негативно об архиерее и о других священнослужителях, называл их «красными» и «советскими священниками» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 48). Протоиерей Игнатий Кондратюк открыто в своих проповедях говорил о гонениях на Церковь в Советском Союзе (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 907. Л. 48). Обращаясь к о. Игнатию Кондратюку, владыка Флавиан писал: «В течение четырех лет, а за последнее время в особенности, Ваше тайное влияние и руководство на не церковную и нездоровую группу Казанского прихода г. Ельца, которая вместе с Вами занялась явным нарушением церковных канонов… далее терпимым быть не может, так как Вы по духу тщеславия, гордости и домогания настоятельства разлагаете приходскую жизнь, а своими выступлениями с церковного амвона ведете мало разбирающихся людей к полной анархии» (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 120. Л. 3). Иерарх также указал священнослужителю на недовольство со стороны уполномоченного Н. Ф. Зверева, который был обеспокоен нарушением спокойной жизни г. Ельца. Все эти причины легли в основу указа, освобождающего о. Игнатия Кондратюка от несомого послушания. Думается, что основной причиной освобождения священнослужителя от должности является недовольство его деятельностью со стороны советской власти. Кроме того, о. Игнатий Кондратюк лишился какой-либо поддержки со стороны правящего архиерея и других священнослужителей, так как поставил себя в оппозицию к ним.
Епископ Флавиан подробно доложил управляющему делами Московской Патриархии протопресв. Николаю Колчицкому всю ситуацию, которая произошла с прот. Игнатием Кондратюком. В своем докладе иерарх написал такие слова: «С тех пор, как Вечный Судия мне в Орле пребывание определил, познал я всю тяжесть архиерейской жизни» (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 145. Л. 13). Архипастырю действительно было непросто принимать такое кадровое решение, так как весьма деятельного и видного священника любили и уважали прихожане. Однако протопресв. Николай Колчицкий поддержал владыку Флавиана в этом вопросе, назвав такое решение совершенно справедливым и даже снисходительным по отношению к о. Игнатию Кондратюку (ГАОО. Ф. Р-4330. Оп. 1. Д. 145. Л. 14).
В январе 1954 г. в связи с образованием Липецкой области из Орловской области были выделены 9 районов, в том числе города Елец и Задонск. Так как 3 церкви отошли в новообразованную Липецкую область, количество действующих храмов в Орловской области сократилось до 23 (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 14). Все переданные в Липецкую область районы вошли в состав Воронежской и Липецкой епархии (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 25). По состоянию на 1 июля 1954 г. в Орловской области служило 29 священников и 9 диаконов (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 14).
В 1954 г. обострилась ситуация с Успенским храмом в с. Вербник Хотынецкого района Орловской области. Председатель местного колхоза Служивенков много лет стремился ликвидировать открытый в 1941 г. Успенский храм. Часть здания церкви была отдана колхозу для хозяйственных нужд. Пользуясь этим, Служивенков проводил различные работы в храме в часы богослужений (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 8). Как сообщает уполномоченный Н. Ф. Зверев, такие работы всегда сопровождались криками, шумом и бранью (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 8). Кроме того, к церковному зданию по распоряжению Служивенкова было пристроено помещение для автомобилей (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 8). Трактор и другие автомобили стали заводить именно в период богослужений (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 9). С этими вопросами к уполномоченному обратились настоятель храма и еп. Флави-ан (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 9). Когда Н. Ф. Зверев стал разбираться в данной ситуации, то оказалось, что даже председатель райисполкома Андреев полностью поддерживает действия председателя колхоза Служивенкова (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л.9). Уполномоченный Н.Ф. Зверев сообщил об этом секретарю Хотынецко-го РК КПСС Петрову, который и распорядился убрать пристроенный к церковному зданию гараж (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 22). Благоприятное разрешение этого вопроса, вероятно, было связано с общим потеплением церковно-государственных отношений в Советском Союзе в 1954–1958 гг. Однако, как можно заметить, далеко не все советские чиновники потеплели в этот период к Церкви.
В 1954 г. продолжался рост религиозности в Орловской области. «Во многих пунктах Орловской области наблюдалось известное оживление и подъем религиозной активности... Этому оживлению религиозной деятельности в некоторой степени способствовали неблагоприятные метеорологические условия, сложившиеся в ряде районов области, именно очень сильная и продолжительная засуха… Не только отсталая часть сельского населения, не только старики и старухи, но и некоторые руководители колхозов, как это имело место в Володарском районе, не выдержали и обратились за помощью к небу», — писал в своем отчете за 1954 г. Н. Ф. Зверев. Такие факты свидетельствуют о провале антирелигиозной политики советской власти в предшествующие годы. Жители Орловской области в своем большинстве продолжали оставаться верующими людьми даже в самые непростые годы советских гонений на Церковь.
В июле 1954 г. уполномоченный Н. Ф. Зверев получил распоряжение из Совета по делам Русской Православной Церкви начать подготовку к закрытию Рождественской церкви в с. Путимец Орловской области (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1147. Л. 31). Незадолго до этого настоятель храма свящ. Семёнов самовольно оставил место своего служения и был запрещен еп. Флавианом в священнослужении (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 2).
В 1954 г. в Орловской области усилилась атеистическая пропаганда. С этим вопросом к уполномоченному Н. Ф. Звереву пришел настоятель храма вмч. Димитрия Солунского г. Дмитровска Орловской области Прохоров (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 8). «Настроение этого священника было мрачное, и он высказал предположение, что очевидно, в недалеком будущем нужно ожидать всяких осложнений и неприятностей для духовенства», — писал в своем отчете Н. Ф. Зверев. И хотя чиновник успокоил священнослужителя, уже в краткосрочной перспективе настоятель Димитровского храма оказался прав. Через несколько лет Церковь вновь столкнулась с масштабными гонениями со стороны советской власти.
Накануне Пасхи 16 апреля 1955 г. в Орловскую область приехал посол Великобритании в СССР Уильям Хейтер (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 26). Среди прочего посол вместе с женой и дочерью за несколько часов до начала пасхального богослужения посетил Богоявленский кафедральный собор г. Орла (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 26). Вот как зафиксировал это событие уполномоченный Н. Ф. Зверев: «Посетители пробыли в церкви около 20 минут, бегло осмотрели внутренность храма, подошли к плащанице… Встретив в церкви священника Серафима Бычок, спросили его на ломанном русском языке, когда начнется пасхальное богослужение. Священник ответил, что служба начнется в 12 часов ночи. Продолжения разговора не последовало и, постояв еще несколько минут, посетители вышли из церкви» (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 26). Кроме того, посол посетил Петропавловскую церковь Мценска (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 26). Тот факт, что Уильям Хейтер вместе с семьей беспрепятственно посещал храмы Орловской области и вряд ли видел следы какого-либо ограничения деятельности Церкви в Советском Союзе, говорит о том, что коммунистическая власть продолжала использовать Церковь в целях своей международной деятельности.
В июне 1955 г. советские власти распорядились разобрать колокольню Преображенской церкви в с. Губкино Малоархангельского района Орловской области (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 30). Власти хотели использовать храмовые строительные материалы для постройки мастерской машинно-тракторной станции. Стоит отметить, что данное решение противоречило постановлению СНК СССР от 1 декабря 1944 г. № 1643-486с «О православных церквах и молитвенных домах». Согласно этому документу, разборка церковного здания могла быть произведена только в случае его аварийного состояния.
Решение о разборе Преображенской церкви с. Губкино вызвало возмущение и сопротивление верующих. За 2 дня жители села собрали более 450 подписей против разрушения здания храма (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 32). Кроме того, сельчане организовали круглосуточное дежурство возле Преображенской церкви (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 31). Известно, что движение за сохранение храма было поддержано правлением колхоза, учителями, работниками сельского совета и даже парторганизацией (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 32). В результате решение о разрушении церкви было отменено. Верующие в этот раз смогли отстоять свой храм от преступных действий со стороны атеистических советских властей. Думается, что решающую роль в сохранении церкви сыграло именно сопротивление жителей. Советская власть в деле борьбы с религией нередко нарушала собственные же законы. Поэтому о вышеупомянутом постановлении СНК СССР от 1 декабря 1944 г. местные власти вспомнили лишь после открытого протеста сельчан.
В 1955 г. владыка Флавиан поднял вопрос о переводе кафедры из Богоявленского собора, зданию которого требовался ремонт, в Успенский (Михаило-Архангельский) собор (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 42). В первую очередь иерарха не устраивало само местоположение Богоявленского кафедрального собора, располагавшегося возле орловского городского рынка (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 42). Владыка просил уполномоченного Н. Ф. Зверева передать Успенский (Михаило-Архангельский) собор верующим (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 42). С этой же целью иерарх неоднократно посещал в Москве Совет по делам Русской Православной Церкви. Одной из основных проблем был ремонт Успенского собора. Владыка Флавиан предполагал, что для ремонта потребуется 1,5–2 млн руб. (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1256. Л. 42.). Таких средств в Орловской епархии в то время не было. Кроме того, представители советской власти не одобряли открытие еще одного храма в Орле (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1363. Л. 4). В результате различных обсуждений иерарху было отказано в открытии Успенского собора.
28 ноября 1955 г. владыка Флавиан был переведен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру.
Таким образом, в 1-й пол. 1950-х гг. из-за антирелигиозной политики советской власти в Орловской области продолжала развиваться неофициальная религиозность. Православные люди организовывали молитвенные собрания возле «святых колодцев». Нередко молебны в этих местах совершали самозванцы, которые выдавали себя за священнослужителей. Верующие продолжали направлять ходатайства об открытии церквей, однако ни одно такое обращение не нашло поддержки властей. Вследствие подобных ходатайств в 1952 г. патр. Алексий I поинтересовался состоянием с. Спас-Чекряк, в котором в нач. XX в. служил известный прот. Георгий Коссов. В 1950-х гг. в с. Спас-Чекряк продолжали оставаться люди, которые почитали о. Георгия Коссова и хранили память о нем. В 1950-х гг. орловцы особо почитали юродивого старца Афанасия Сайко. А. А. Сайко вызывал раздражение у советских властей, поэтому неоднократно подвергался принудительному лечению в психиатрической больнице. Имеющиеся сведения о поведении юродивого позволяют установить его адекватность. Отсутствие каких-либо психических отклонений говорит о добровольном принятии Афанасием Сайко подвига юродства и проповеди христианства таким образом жизни. Кадровая ситуация в Орловской области продолжала оставаться в неудовлетворительном состоянии. Священнослужителей не хватало. Некоторые храмы не действовали по причине отсутствия священников. В то же время нередко в область приезжали молодые священнослужители. Однако особо активные священники сталкивались с недовольством советской власти. В 1953 г. был освобожден от должности известный в г. Ельце прот. Игнатий Кондратюк. Несмотря на некоторую оттепель в отношениях Церкви и государства, в 1954 г. православные верующие Орловской области продолжали сталкиваться с различными трудностями и притеснениями со стороны местных властей. В большинстве случаев в 1954-1955 гг. все конфликтные ситуации заканчивались благоприятно для верующих. Однако и священнослужители, и простые верующие Орловской области осознавали, что антирелигиозная политика в Советском государстве никуда не исчезла и со временем вновь проявит себя в более жесткой форме.