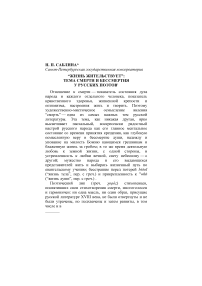“Жизнь жительствует”: тема смерти и бессмертия у русских поэтов
Автор: Саблина Н.П.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.7, 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется одна из самых важных тем русской литературы – тема смерти. Эта тема, как никакая другая, ярко высвечивает пасхальный, воскресенски радостный настрой русского народа как его главное ментальное состояние со времени принятия крещения, как глубокую осмысленную веру в бессмертие души, надежду и упование на милость Божию кающимся грешникам и блаженную жизнь за гробом; в то же время деятельную любовь к земной жизни, с одной стороны, и устремленность к любви вечной, свету небесному — с другой; мужество народа и его выдающихся представителей жить и выбирать жизненный путь по евангельскому учению.
Тема смерти, бессмертие, православие, воскрешение
Короткий адрес: https://sciup.org/14749174
IDR: 14749174
Текст научной статьи “Жизнь жительствует”: тема смерти и бессмертия у русских поэтов
ТЕМА СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ
У РУССКИХ ПОЭТОВ1
Отношение к смерти — показатель состояния духа народа и каждого отдельного человека, показатель нравственного здоровья, жизненной крепости и оптимизма, настроения жить и творить. Поэтому художественно-мистическое осмысление явления “смерть” — одна из самых важных тем русской литературы. Эта тема, как никакая другая, ярко высвечивает пасхальный, воскресенски радостный настрой русского народа как его главное ментальное состояние со времени принятия крещения, как глубокую осмысленную веру в бессмертие души, надежду и упование на милость Божию кающимся грешникам и блаженную жизнь за гробом; в то же время деятельную любовь к земной жизни, с одной стороны, и устремленность к любви вечной, свету небесному — с другой; мужество народа и его выдающихся представителей жить и выбирать жизненный путь по евангельскому учению; бесстрашие перед потерей biдoI (“жизнь тела”, пер. с греч.) и прикрепленность к "whд (“жизнь души”, пер. с греч.) .
Поэтический лик (греч. χορός ) стихопевцев, посвятивших свои стихотворения смерти, многоголосен и гармоничен: ни одна мысль, ни один образ, присущие русской литературе ХVIII века, не были отвергнуты и не были утрачены, но подхвачены и затем развиты, в том числе и в
* Саблина Н. П., 2005
-
1 Проблемным названием к рассуждению поставлены слова из заключительной части “Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, Слова огласительнаго во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения”, читаемого на пасхальной утрене: “Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе: Христос бо востав от мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава, во веки веков, аминь”.
современной духовной поэзии. Авторская поэтика поражает многообразием. Переживание смерти наряду с переживанием любви — одно из острейших для человека:
И будем мы в сияющем эфире
Плыть и лететь.
Ведь лишь одно и важно в этом мире — Любовь и смерть2.
Обращает на себя внимание, что тема смерти не разделяет поэтов. Любой поэт может оставить неповторимые строки, отразившие глубокое движение духа, которые затем узнают и примут многие:
Все перед смертью говорят стихами, Стихами наивысшей простоты… (Иеромонах Роман Матюшин, 1978)
Каждая культурно-историческая эпоха и личность автора оставили свой яркий след в поэтической симфонии стихов о смерти.
Век ХVIII отличается прямыми переложениями песнопений по усопшим, риторичностью и назидательностью в стиле классицизма. Например, переложение стихир самогласных, поемых при погребении, “Плачу и рыдаю”, “Зряще мя безгласна”
А. П. Сумароковым:
Непреминуемой повержена судьбою, Безгласна зря меня лежаща пред собою Восплачите о мне, знакомые, друзья… Плачу и рыдаю
Рвуся и страдаю,
Только лишь воспомню смерти час…
Также у Г. С. Сковороды:
Видя жития сего горе,
Кипящим, как Чермное море, Вихрем скорбей, напастей, бед.
Эпиграфом к переложению взята первая строка ирмоса шестой песни Канона шестого гласа “Житейское море3, воздвизаемое зря… и проч.” Ср. также позднее переложение песнопений Панихиды в поэме А. К. Толстого “Иоанн Дамаскин”:
Вечность, бессмертие души, а следовательно, и загробная жизнь — понятия человеческого духа, следовательно, понятия общечеловеческие и находятся в теснейшей связи с вероучением всех народов, всех времен и мест, на какой бы степени нравственного и умственного развития человек ни находился6.
Но только христиане имеют ясное и твердое исповедание бессмертия, так как до озарения человечества светом Христовой веры бессмертие представлялось смутным и неясным7.
различии посмертного состояния души праведника и грешника: “Честна пред Господем смерть преподобных Его” (Пс. 115:6); “Смерть грешников люта”, (Пс. 33:22); предупреждает о необходимости покаяния при жизни: “Во аде же кто исповестся Тебе?” (Пс. 6:6). См. также псалмы: 1, 7, 9, 11, 33, 36, 40, 48, 54, 62, 67, 68, 128, 138, 140.
Вера в загробную жизнь есть догмат Православия:
Чаю Воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь
(12-й, заключительный стих “Символа веры”).
Видимая смерть, смерть физического тела воспринимается христианским сознанием как наказание за грех, как праведный Божий Суд:
Твоей то правде нужно было, Чтоб смертну бездну проходило Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился И чтоб чрез смерть я возвратился, Отец! — в бессмертие Твое.
(Г. Р. Державин. Ода “Бог”)
Особенно философски-пространно и образно-ярко рассуждает поэт в “Бессмертии души”, заключая произведение следующим образом:
О, нет! — бессмертие прямое —
В едином Боге вечно жить.
Покой и щастие прямое
В Его блаженном свете чтить.
О радость! О восторг любезный!
Сияй, надежда, луч лия!
Да на краю воскликну бездны
Жив Бог! — жива душа моя.
В этой обобщающей строфе собраны почти все те главные словокорни, которые в многообразии метафорики определяют пасхальную тональность стихов о смерти всей русской поэзии: бессмертие — вечная жизнь в Боге — покой — блаженство — свет — радость8.
-
8 В. А. Жуковский размышляет о вознаграждении бессмертием за смиренное несение тяжкого креста земной жизни: “Хранимы Промысла невидимой рукой: / Он с жизнью нас мирит бессмертья воздаяньем!” (Стихи, вырезанные на гробе А. Ф. С—ой, 1808). Н. Ф. Щербина утешает, глядя на внешнюю смерть: “Но не грусти, что червь тебя изгложет / В ничтожестве и прахе, человек!.. / Что было раз, того не быть не может, / Что создано, то создано навек” (“И здесь, и там, и далее гробница…”, 23 мая 1846). С. И. Кольцов видит в вере в бессмертие облегчение земным страданиям: “И сладко мне в часы страданья / Припоминать порой в тиши / Загробное существованье / Неумирающей души” (“Кладбище”, 1852). Он же рассуждает о бессмертии духа: “Отрадно мне думать, / Что дух мой бессмертный / Есть вечный наследник / Бесплотного царства” (“Вечность”, 1854). В. Я. Брюсов пишет о бессмертии как одной из четырех сладких отрад, наряду с сознанием жить, творить строфы поэзии, быть любимым: “Радость последняя — радость предчувствий, / Знать, что за смертью есть мир бытия” (“Отрады”, 28 апр. 1900); Манефа Чокой об устремлении души к вечности, призыва архангельского мира, где “трепет крыльев серебристый”, о чудесной тайне будущей жизни. “Эта жажда — зов бессмертья! Эти муки не случайны” (“За рубежом юности”, 1917).
Главное слово, которым можно определить отношение к смерти русского народа, — это совоскресение во всем богатстве движения от Страстной Седмицы к Пасхе. Господь Иисус Христос, “Первенец мертвых бысть”, явился первым воскресшим. В Пасхальном тропаре больше число слов указывает на смерть (4), чем на жизнь (2):
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Мертвые, смерть, гроб и воскресение — вот все его понятия. Но ведь это одно понятие, взятое с разной стороны. Это все синонимы одного слова, и весь тропарь собственно одно слово9.
В службах православной церкви по усопшим, обращенных к главному Лицу — Христу Спасителю, священник неоднократно повторяет:
Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих.
Здесь покой (упокоение через смерть), живот (жизнь вечная) и воскресение (переход от смерти к жизни), как и в Пасхальном тропаре, сплавляются в одно смысловое целое, в гиперслово, утверждающее жизнь бесконечную, жизнь будущего века.
Преодоление смерти, растворение смерти жизнью, совоскрешение первыми ощутили жены-мироносицы:
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Воскресения, попрание смерти смертью и совоскресение — одно из самых глубоких в русской лирике:
Но смерть была смертью. А ночь над холмом Светилась каким-то нездешним огнем, И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски.
А после… Прозрачную тень увидал
Один. Будто имя свое услыхал
Другой… И почти уж две тысячи лет Стоит над землею немеркнущий свет.
(Г. В. Адамович. “Но смерть была смертью”)
В стихах русских поэтов слышатся Евангелие, церковные гимны, то сокровенно, то прямо. Так, М. Лохвицкая ставит в заключение своего стихотворения “В скорби моей” слова святителя Иоанна Златоуста из “Слова огласительного”: “Где твое, смерте, жало?”
Молча пройду я сквозь холод и тьму, Радость и боль равнодушно приму.
В смерти иное прозрев бытие,
Смерти скажу я: “Где жало твое?”
В стихах русских поэтов о смерти представлено богатейшее метафорико-символическое поле света. Напомним, что и Господь, Свет Светов, воскрес в день, приравниваемый к первому дню творения, когда был сотворен свет. Сам этимон (первосмысл корня kres ) слова “воскресение”,
-
10 Ср. его же стихотворение “Выложен гроб лоскутками” о похоронах старушки, которую в гробе, как в дубовом коконе, “На зиму сносят в дупло”, с уверенностью в светоносном воскресении ее: “Всякий идущий за гробом / Молча лелеет мечту — Сказано: встанет старушка / Вся и в огнях и в свету”.
ключевого ментального славянского слова, значит “весенний солнцеворот”, “возвращение солнца, света”.
Светоносна служба Пасхи: “Воскресения день, просветимся людие” (Ирмос 1-й песни Канона)11. Светит свет и в Панихиде, где “праведницы сияют яко светила” (Тропари по Непорочных).
Живописно пасхальное лексико-символическое поле света в стихах русских поэтов. Так, видим пасхальные блистания света в стихотворении Г. Р. Державина “Бессмертие души”: “…вечен дух… быстрее молнии текущий”; “душа жива… как жив и свет”; “краску солнечных лучей”; “огнь из праха в том родится”; “как серный прах прикосновеньем вмиг возгарается огня” “при возблещущей заре” и др.
Особенно нежны и ясны образы света в эпитафиях младенцам или стихах о ранней смерти юных дев, отроков12.
Мощные, яркие, космические образы света пульсируют в стихотворениях М. Волошина. В книге “Путями Каина” поэт рассматривает трагедию материальной культуры как движение от жизни к смерти, тогда как опытом христианского духа он видит иной порядок: от смерти к воскресению.
Огонь есть жизнь
И в каждой точке мира
Дыхание, биенье и горенье.
Не жизнь и смерть, но смерть и воскресение — Творящий ритм мятежного огня.
(“Чтобы не дать материи изникнуть”)13
“На смерть девы” Н. С. Тепловой; “Жалость к младенцам” архиепископа Иоанна Сан-Францисского и многие другие.
-
13 См. у него же: “И плоть моя — росток огня”, “И человек сознал себя огнем, / Заклепанный в темнице тесной плоти” (2 января 1923, Коктебель); “Так страшно, свободно и просто / Мне выявлен смысл бытия / И скрытое в семени “я” / …везде… / Я слышу поющее пламя” (авг. 1912, Коктебель).
Настроения радости, блаженства, веселия, ликования, надежды и веры во встречу с любимыми там, на небе, выражены в неповторимых поэтических переживаниях: “Сбылося все; я в стороне свиданья” (В. А. Жуковский. “Голос с того света”. 1815); “Блаженством там сияющие лики” (А. К. Толстой. “В стране лучей, незримых нашим взорам”, авг. или сент. 1856); “Ваш сын, теперь жилец небесный / И славу Бога созерцает, / И гимны райские поет…” (И. С. Никитин. С. В. Чистяковой, 25 апр. 1854).
Замечательно стихотворение А. Блока о летящей радости за гробом:
Хоронил я тебя и, тоскуя, Я растил на могиле цветы, Но в лазури, звеня и ликуя, Трепетала, блаженная, ты.
Похоронные слезы напрасны — Ты трепещешь, смеешься, жива! И растут на могиле прекрасной Не цветы — огневые слова.
(“Хоронил я тебя…”, июнь. 1902)
Перекликается с ним светлое стихотворение И. А. Бунина “Свет незакатный”, написанное 24 ноября 1917 года, пронизанное радостью простора:
Там, в полях, на погосте, В роще старых берез,
Не могилы, не кости — Царство радостных грез.
На стихотворении “Светлая заутреня в старости” А. Солодовникова14 лежит печать новой атеистической эпохи: мрачный пейзаж:
По небу темному волокнами
Несутся тучи… одиночество, состояние блудного сына вне храма:
…блудный сын,
У храма я стою под окнами
В большой толпе, как перст, один.
-
14 А. А. Солодовников (1893—1978). Рукописный сборник стихов “Слава Богу за все” (М., 1969).
Пространство храма, показывая соборное единство церкви земной и небесной, определяется символическим словом там (ср. в церковных текстах ТАМО, мыслимое как метафизическая сфера):
Там свет, заутреня пасхальная;
Там пир, там Отчий дом родной
Для всех, кому дорога дальняя, И кто закончил путь земной15.
От смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос
Бог нас преведе, победную поющыя (Ирмос 1-й песни Канона Пасхи).
Переход туда, в Отечество Небесное и нахождение там порождают неповторимые образы в русской лирике: “Душа-орлица благополучном веке XIX. Так, сомнения в бессмертии видим у К. Фофанова, который определяет смерть лишь как забвение жизни, что за гробом — лишь яма (“Что наша вечность?”). Земные образы тления, умирания в природе заслоняют видение бессмертия, вызывают чувство тоски:
Следом роща послала стенанья,
И во всем безнадежность желания:
“Только б жить, дольше жить, вечно жить”.
(И. Анненский. “Желание жить”)
В стихах советских поэтов видны мучительные размышления над утраченной верой в бессмертие, тоска по ней:
О видения детских лет,
Где казалось, что смерти нет!..
Нынче сосны шумят в бору — Все о том, что и я умру.
(А. Жигулин. “Стих Ирине”, 1976)
Драматичен апокалипсис М. Дудина:
И вот тоскует смертная душа,
Куда — сама не ведая — спеша”.
(Из сборника “Дорогой крови по дороге к Богу” СПб., 1995) Теряется смысл бытия, т. к. неверие в загробную жизнь, потеря страха смерти приводит к появлению поколения, которому “все можно”:
И стали мы низки и гадки
Пред оком собственной души.
(Из архивов Оптиной Пустыни, “Не страшно умереть!..”)
Но вновь воцерковляющийся народ-скиталец возвращается в Церковь, вспоминая о Суде и Страхе Божием (См. переложение 72-го псалма о памяти смертной и наказании грешникам убиенным иеромонахом Василием “Содрогнулось вчера было сердце мое”).
снова родину узрит” (В. Бенедиктов. “Жизнь и смерть”, 1836); “Ее же на родину из чужи проводили” (В. Жуковский. “Плачь о себе”, 1838); “Я знаю, что мой рай там… в Божией вышине” (А. Голенищев-Кутузов. “В тиши раздумия”); “И мира нового покоен, примирен, / Я буду вечным гражданином” (А. Фет. “Кричат перепела…”); “Мы никуда теперь уйти не можем, / Как только в этот чуть холодный Сад” (архиепископ Иоанн Сан-Францисский).
Переход “туда” чаще выражается через перелет, переплыв (из житейского моря). Прекрасными образами птиц или, метонимически, крыльев, буквально переполнены вся русская поэзия: “Несытым некаким летаю” (Г. Р. Державин. Ода “Бог”), “Горними тихо летела душа небесами (В. Жуковский) и многие другие16.
Душе усвояется образ птицы: ласточки, голубя, снегиря, воробья, совы, соловья, лебедя :
О как ты рвешься в путь крылатый, Безумная душа моя, Из самой солнечной палаты В больнице светлой бытия!
Поверь же соловьям и совам, Терпи, самообман любя, — Смерть громыхнет тугим засовом в вечность выпустит тебя.
(В. Набоков. “О как ты рвешься в путь крылатый”, 2 мая 1923)
Архетипический образ “пещеры” и “жемчужины” преломляется в богатейшем спектре образов: как гроб-”темница” не удерживает “жемчужину”-Христа, так и тело человека — “темница” не удерживает его бессмертную душу.
Самым таинственным образом “пещеры”17, имеющей плодом “жемчужину”, является образ червя18. “Червь” стал образом-символом совоскресения и преобразования человека после смерти:
зло мира; разоривший ад, став приманкой для него (См. толкование 21-го псалма , стиха “Азъ есмь червь, а не человек”).
Как червь, оставя паутину И в бабочке взяв новый вид, В лазурну воздуха равнину На крыльях блещущих летит, В прекрасном веселясь убранстве, С цветов садится на цветы: Так и душа в небес пространстве Не будешь ли бессмертна ты?
(Г. Р. Державин. “Бессмертие души”)19
Совсем иной “перелет” в стихах советской эпохи:
Мы в глубь космических загадок Летим, как ведьма на метле, Чтобы на звездах беспорядок Устроить, как и на земле.
(А. Солодовников. “Атомный век”)
Смерть — великая тайна; смерть есть и смерти нет:
…есть — проклятье, боль, уныние, забвенье, Разлука страшная, но смерти — нет…
(П. С. Соловьева. “Тайна смерти”)
Одни поэты риторически вопрошают: “Что ты?” —
Смерть есть тайна, жизнь — загадка: Где ж решенье? цель? конец?
(А. Н. Майков. “Смерть есть тайна…”, 1889)
Другие отвечают: “Это — нечто, это что-то”.
Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья…
А я уже стою на подступах к чему-то.
(Анна Ахматова. “Смерть”, 1942. Дюрмень)
Смерть как великое и сокровенное таинство словеснообразно выражается в антиномиях, породивших богатейшую лирику философских размышлений.
Антиномии, связанные со смертью, многообразны. Назовем основные. Смерть — пасхальная радость совоскресения, смерть — скорбь и горе. Смерть безобразна — смерть прекрасна и величественна:
19 См. также: “К несчастному” В. Капниста; “Вечное” Н. Гумилева (“Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя”); “Смерть поэта” А. Ахматовой (“Он поведал мне, что перед ним / Вьется путь золотой и крылатый”).
Видали ль вы преображенный лик
Жильца земли в священный миг кончины…
(В. Г. Бенедиктов. “Переход”, 1853)
Смерть — жизнь вечная и смерть — смерть вечная, начинающаяся при жизни. Смерть — сон, успение, покой; смерть — пробуждение, бодрствование в новой жизни. Смерть — гроб (“пещера”), смерть — широта бесконечная. Смерть — разлука вечная, смерть — соединение, союз в вечности.
Смерть в христианской поэзии — не просто событие, таинство, действие , но также и действующее существо , лицо. Здесь мы видим не олицетворение или древний языческий антропоморфизм, а ту грань умонепостигаемости вещи или явления, за которой что и кто уже не различаются. Тогда пара Смерть и смерть подобна парам Путь и путь , Истина и истина , Свет и свет .
Краски образа Смерти в русской поэзии, в отличие от мрачного западно-европейского барокко, светлы, лучисты, величественны, хотя напряженность антиномии “Смерть — ангел Бога, освобождающий от уз земной плоти” и “Смерть — казнящий палач” сохраняются в огромном корпусе стихов русских поэтов20.
Интересное решение образа смерти находим у Сергея Клычкова в стихотворении “Уставши от дневных хлопот” (1923—1926). Оно построено как восходящий период с анафорическими “Как хорошо”, перечисляющими вехи “дневного” (т. е. земного) жизненного делания человека: заповеданный труд на земле до пота (“Как хорошо полой рубашки / Смахнуть трудолюбивый пот…”), воспитание детей (“Как хорошо, когда в семье, / Где сын жених, а дочь невеста…”). Композиция напоминает первую главу книги “Бытия” с оценкой каждого дня творения “яко добро” (в Синодальном переводе “что это хорошо”). И тогда, в упокоение от трудов, как и Господь почил в субботу после шести дней творения, встреча со смертью, пожинающей духовно зрелый плод, становится естественной:
О, Господи! Ужели доживу
С живою Смертью наяву свидаться?
В безумии хватаюсь за траву!
О, травы, травы — нам не удержаться!
Несет меня — душа кричит без слов!
А как же Храм? Рванулся что есть силы… Стоит мой Храм. Стоит без куполов.
Живая Смерть, дай околеть, помилуй!
Но ты бежишь, бушуешь за спиной.
О, Боже Правый! Отыми виденье! Все, что угодно сотвори со мной, Но сохрани Свой Дом от сокрушенья. (Иеромонах Роман Матюшин, 22 февр. 2001 г., скит Ветрово)
Однако из Апокалипсиса известно также, что смерть, сделав свою работу, упразднится:
И отымет Бог всяку слезу от очию их, и смерти не будет ктому: ни плача, ни вопля, ни болезни не будет ктому (21:4).
Заключим наше рассуждение тем, что, несмотря на потрясения ХХ века, измученный народ стоически сохраняет верность Христовой Пасхе в своем поведении и поэтической культуре. Стихотворением Александра Александровича Солодовникова (рукописный сборник, до 1978 года) “На Пасхе” подверждается, что в эпоху безбожия народ не забыл Христа, который “есть Воскресение, Живот и Покой усопших рабов Его”, наших сродников, и шел на кладбища при порушенных церквях.
Хоть он теперь не богомолен, Наш заблудившийся народ, И звон умолкших колоколен Его к молитве не зовет, Но голос сердца изначальный
|
В его душе еще звучит |
|
|
124 |
И в светлый день первопасхальный “Христос Воскресе” говорит. Тогда, покорный древним силам, В распах кладбищенских ворот Идет народ к родным могилам, Идет, идет, идет, идет… Тот голос сердца не заглушишь! |
Возрождающаяся духовная поэзия нового времени воссоздает и преумножает духовный потенциал русской классической поэзии.
Список литературы “Жизнь жительствует”: тема смерти и бессмертия у русских поэтов
- Егорова Т. Наш падший мир…//Догорает Господнее лето. СПб., 1998. С. 10.
- И. А. Есаулов. Пасхальный архетип русской литературы и структура романа «Доктор Живаго»/Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Петрозаводск, 2001. С. 488
- Монах Митрофан Как живут наши умершие и как будем жить и мы после смерти. М., 2000. С. 207-208.
- Пс. 22:5
- Пс. 115:6
- Пс. 33:22
- Пс. 6:6
- Скабалланович М. Объяснение важнейших пасхальных песнопений с указанием связи между ними//Пастырское чтение. 1915. Март. С. 15.
- Аверинцев С. С. [Вступ. ст.]//Многоценная жемчужина. М., 1994. С. 48-55
- Епископ Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. М., 1991. С. 104-105