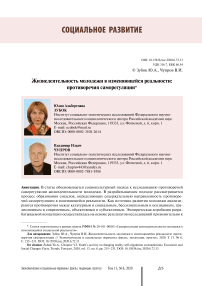Жизнедеятельность молодежи в изменяющейся реальности: противоречия саморегуляции
Автор: Зубок Юлия Альбертовна, Чупров Владимир Ильич
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное развитие
Статья в выпуске: 6 т.13, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается социокультурный подход к исследованию противоречий саморегуляции жизнедеятельности молодежи. В разрабатываемом подходе рассматривается процесс образования смыслов, определяющих содержательную направленность противоречий саморегуляции в изменяющейся реальности. Как источник развития молодежи анализируются противоречия между культурным и социальным, бессознательным и осознанным, традиционным и современным, объективным и субъективным. Эмпирическая апробация разрабатываемой концепции осуществлялась на основе результатов исследований применительно к сферам образования, труда и семьи. В столкновении культуры и социального проявляется как консервативная, так и конструктивная составляющая. Консервативная связана с ситуациями разных форм экономических ограничений, а конструктивная - с рационализацией отношения молодежи к образованию, труду и семье, поиском альтернативных путей разрешения противоречий. Противоречие между бессознательным и осознанным проявляется как противоборство смыслов - терминального, самоценного и инструментального, рационального отношения к объектам реальности. Противоречие традиционного и современного по-разному проявляется в образовании, труде и семье. В сфере образования происходит девальвация традиционных ценностей образования, отсутствуют условия для укрепления современных; в сфере труда сохраняется исторически сложившееся противоречие его инструментального и терминального смысла; в семейных отношениях - острое несоответствие стремления молодежи к современным формам организации семьи доминирующим в обществе традиционным формам. В противоречии объективного и субъективного в различных сферах отражаются существующие проблемы объективной действительности и субъективное отношение к ним молодежи. Эмпирически противоречия анализируются на основе результатов сравнительного социологического исследования, проведенного авторами в 2014 и 2017 гг.
Молодежь, жизнедеятельность, саморегуляция, изменяющаяся реальность, противоречия, культурное и социальное, бессознательное и осознанное, традиционное и современное, объективное и субъективное
Короткий адрес: https://sciup.org/147225296
IDR: 147225296 | УДК: 316.7 | DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.13
Текст научной статьи Жизнедеятельность молодежи в изменяющейся реальности: противоречия саморегуляции
Жизнедеятельность любой социальной группы, в том числе молодежи, – во многом саморе-гулируемый процесс. Саморегуляция проявляется в способности разных групп молодежи воздействовать на условия своей жизнедеятельности, приспосабливая социальную реальность к своим потребностям. В основе саморегуляции лежат конструируемые молодыми людьми образы реальности, т. е. формирующиеся в процессе социализации смыслы и значения, которыми они наделяют объекты реальности. Формирование смыслов происходит в культурном пространстве посредством реализации социальных функций культуры, важнейшей среди которых является регулятивная, направленная на регулирование социальных взаимодействий.
Процесс смыслообразования сопровождается противоречиями, представляющими «определенный тип взаимодействия различных и противоположных сторон, свойств, в составе той или иной системы или между системами, процесс столкновения противоположных стремлений и сил» [1, с. 241–242]. Противоречия в жизнедеятельности молодежи возникают во взаимодействии противоположных сторон элементов механизма ее саморегуляции: культурных и социальных, осознанных и бессознательных, традиционных и современных, объек- тивных и субъективных [2, с. 114–123]. В связи с этим для изучения жизнедеятельности молодежи и противоречий, возникающих в процессе ее саморегуляции в условиях изменяющейся социальной реальности, необходимо решить следующие задачи.
Во-первых, нуждается в теоретическом обосновании соотношение культурного и социального в организации социальной жизни молодежи. Во-вторых, требуется обосновать связь архетипических и ментальных структур коллективного бессознательного с рациональными основаниями саморегуляции социальных взаимодействий. В-третьих, необходимо определить устойчивые типы социальных связей между традиционным и современным в организации социальной жизни молодежи. В-четвертых, важно иметь представление о соотношении объективного и субъективного в конструировании молодежью социальной реальности. Решение перечисленных задач направлено на обоснование целостного подхода к социокультурной саморегуляции жизнедеятельности молодежи. Он обеспечивается общей методологической направленностью теоретической разработки противоречий как источника развития в различных сферах жизнедеятельности молодежи: образовании, труде, семейных отношениях.
Методология исследования
В современном обществе процесс выстраивания жизнедеятельности молодежи подвержен постоянным изменениям. Базовые отличия, характеризующие условия жизни и способы ее регулирования, обусловлены нарастанием неопределенности, продолжительным взрослением, пролонгацией маргинального состояния и, как следствие, ростом социальных противоречий внутри разных групп молодежи. Если в условиях относительно устойчиво развивающегося общества наиболее подверженными социальным проблемам были отдельные, локальные группы молодежи с заведомо низким социальным статусом и ограниченными ресурсами для саморазвития, то в условиях глобальных трансформаций социальная база противоречий расширяется. Эскалация противоречий характерна для всех типов обществ, что находит отражение в особенностях жизнедеятельности молодежи и механизмах ее саморегуляции [3–8]. Перспективы их разрешения связаны с выстраиванием индивидуальных и групповых социальных и культурных стратегий транзиции, преодолением новых видов неравенства, появившихся из-за изменений в сфере труда, образования, цифровой реальности [9–13].
Глобальные социально-экономические и социокультурные трансформации закрепляются в «социальном поколении» [14], в образах реальности и способах жизнедеятельности. Среди них – постепенное закрепление ненадежной работы, совмещение работы и учебы в течение длительного времени, принятие стратегии гибкости (флексибильности) и мобильности, непредсказуемости и риска как имманентных составляющих жизнедеятельности. Эти условия и соответствующие им установки ложатся в основу феномена « новой взрослости » (new adulthood) [4, с. 20; 15; 16] и говорят о нарастании различных типов противоречий в жизнедеятельности молодежи, основанных на широком контексте социальных и культурных изменений условий жизнедеятельности, объективных условий реальности и их субъективного восприятия, ожиданий молодых людей, их интенциональных стремлений и переживаний, способов организации жизнедеятельности.
При обосновании противоречий мы опираемся на теоретические подходы, содержащиеся в трудах М. Вебера, К. Юнга, А.С. Ахиезера, Н.И. Лапина, А.Б. Гофмана.
Теоретическое обоснование противоречия культурного и социального в жизнедеятельности содержится в социокультурной теории А.С. Ахиезера. Он доказывает существование «вечного раскола» между социальными отношениями и культурой, противоречивость которых рассматривает как фундаментальную атрибутивную характеристику, видит больше инновационной сущности в культуре, чем в социальных отношениях. Культура рассматривается им как «сфера творчества и фантазии, а социальные отношения всегда должны оставаться функциональными уже в силу самой своей воплощенности в массовый воспроизводственный процесс» [17; 3, с. 22–23]. Приданию культуре человека в большей степени преобразующих, а не консервативных, функций способствует новая, формирующаяся с конца XX века, социокультурная реальность. Происходит переориентация социокультурной истории. На передний план исследовательских интересов выходит проблема реализации субъективных представлений, мыслей, способностей, интенций индивидов в пространстве возможностей, ограниченных объективными условиями. Представляется, что именно в такой постановке социокультурный подход выражен наиболее явно: культура — способ реализации субъективных представлений, мыслей, способностей, интенций индивидов, а социальное отражает объективные условия, рамки, границы, структуру в целом [18, с. 130]. Отсюда вытекает противоречие между культурой как способом и социальным как условиями жизнедеятельности молодежи.
В основе социокультурного подхода Н.И. Лапина содержится не дуальная оппозиция социального и культурного, а тройственная. Вводится актор как носитель культурных и социальных отношений, его субъективная роль проявляется и в традиции, и в инновации. Эти три основные компоненты социума паритетны по отношению друг к другу, однако они взаимопроникают друг в друга и поэтому неразделимы: нет социальности вне культуры и индивидов, нет культуры вне социальности и индивидов, нет индивидов вне социальности и культуры.
Противоречие бессознательного и осознанного возникает между представлениями, взглядами, образами, сохраняющимися в коллективном бессознательном и воспроизводимыми молодежью, с одной стороны, и рационально осмысленными ориентациями на достижение конкретных целей, с другой.
Базовые элементы образов реальности формируются исторически в механизме саморегуляции в форме архетипов коллективного бессознательного и менталитета, закрепляясь в групповом и индивидуальном сознании молодых людей. Архетипы , как культурные перво-образы1, отражая опыт прежних поколений, обеспечивают формирование и унаследование смысловых оснований отношения к объектам социальной реальности. В ментальных структура х отношение к объектам социальной реальности закрепляется в бессознательных и неотрефлексированных формах, как свойство личности, группы, общества, нации, проявляющееся в чертах национального характера. Во взаимодействии обеих форм (бессознательного и осознанного) обеспечивается их единство в процессе саморегуляции.
Противоречие традиционного и современного в способах организации социальной жизни молодежи раскрывается исходя из понимания сущности этих феноменов.
В самом общем виде под традицией в социологии понимается «социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени»2. Обобщая существующие подходы к проблеме соотношения традиций и инноваций и осмысливая в этом ключе наследие Ю.А. Левады, В.В. Колбановский приводит следующее определение: «традиция – механизм воспроизводства социальных институтов и норм, при котором поддержание последних обосновывается, узаконяется самим фактом их „существования в прошлом”» [19, с. 11]. Тради- ции сохраняются в исторической памяти людей в виде культурных образцов, и «каждое поколение, – пишет А.Б. Гофман, – не просто усваивает их в неизменном и готовом виде. Оно неизбежно, так или иначе, осуществляет среди них отбор, по-своему их интерпретирует, приписывает им новые значения и смыслы, которых до него не было» [20, с. 19]. Возникающие на основе традиций новые смыслы и инновации преобразуются в новые культурные образцы (традиционализируются), становясь составной частью культурного наследия.
Универсальной формой поддержания социальной организации традиция может служить преимущественно в относительно простых и стабильных социальных структурах. В более развитых обществах она лишь дополняет систему идеологических и других институтов. Но наряду с традицией, а зачастую внутри нее возникает и набирает силу инновация , связанная с современным изменением социальных отношений и институтов, поэтому определенная степень воспроизводства традиций не означает неизменность, а предполагает их обновление (инновацию) путем наделения новыми смыслами или преобразования в новые формы («модернизация традиционности», по определению А. Гофмана). Более того, «сегодня в большей степени, чем когда-либо, традиции являются объектом выбора, интерпретации и актуализации, индивиды и социальные акторы выбирают не только свое настоящее, не только свое будущее, но и прошлое. Традиционные культурные образцы нередко содержатся внутри самых разных инноваций» [19, с. 27].
В отличие от традиционного современный тип организации общественной жизни строится на основе целерациональной мотивации социальных действий. «Целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действия… то есть действует, во всяком случае, не аффективно (прежде всего не эмоционально) и не традиционно» [21, с. 629]. Иначе говоря, современная организация общественной жизни основана как на традиции, так и на принципе рациональности, предполагая достижение действующими субъектами своей цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами.
Н.И. Лапин ввел понятие «неполной (относительной) респонсивности (соответствия)» между этими компонентами. Респонсивность вырабатывается как естественно-исторический процесс общественного воспроизводства [19; 22, с. 143; 23].
Воспроизводство традиционной культуры происходит в процессе смены поколений. Каждое новое поколение застает культуру, созданную предыдущими поколениями, изменяет ее путем собственной деятельности и передает в измененной форме последующим поколениям. В этом процессе молодое поколение обретает собственное качество как социальная группа, основными функциями которой являются воспроизводственная, направленная на унаследование образцов культуры; инновационная, предполагающая их обновление, и трансляционная, обеспечивающая передачу обновленных образцов будущим поколениям. В связи с этим противоречия в механизме саморегуляции жизнедеятельности молодежи возникают между традицией и инновацией в процессе становления ее субъектности.
Противоречие объективного и субъективного обосновывается в парадигме феноменологической социологии знания, на основе которой рассматривается вся социальная реальность. По мере освоения комплекса знаний о сущности и особенностях проявлений всего, с чем сталкивается молодой человек в ходе социальных взаимодействий, раскрывается объективный аспект социальной реальности – социальная действительность. Познавая объективную действительность, он непосредственно воспринимает ту ее часть, о которой располагает собственными знаниями, то есть субъективно реальность проявляется в уверенности человека в достоверности собственных знаний о наблюдаемых объектах. А сущность социальной реальности коренится в соотношении объективного и субъективного в социальной действительности.
Знания распределены в обществе, молодежь конструирует в своем сознании объекты реальности в соответствии с доступностью знаний, зависящей от собственного социального положения, когда молодой человек осознает себя в качестве члена определенной социальной группы, обладателя определенного социального статуса. Конструирование собственной жиз- ни зависит и от качества приобретаемых знаний, насколько оно соответствует ожиданиям, связанным с выполнением конкретных социальных ролей. Результатом осознания своего социального положения становятся, с одной стороны, ожидания от реальности, а с другой – социальные смыслы, которыми наполняется конструируемая реальность, поэтому в процессе саморегуляции жизнедеятельности возникает противоречие между объективной и субъективной сторонами социальной реальности.
Для анализа рассматриваемых противоречий в статье используются результаты двух исследований, проведенных Центром социологии молодежи ИСПИ РАН под руководством авторов: 1) в 2014 году среди населения РФ в возрасте старше 15 лет в 13 субъектах РФ, в 65 населенных пунктах; опрошено 1459 чел., выборка молодежи в возрасте 15–29 лет составила 401 чел.; 2) в 2017 году в 7 субъектах РФ, в 28 населенных пунктах; выборка молодежи в возрасте 15–29 лет составила 803 чел.
Противоречие культурного и социального в организации социальной жизни молодежи
Позиция актора в противоречии между культурой и социальными отношениями играет важную роль в механизме саморегуляции жизнедеятельности молодежи. В ней отражаются не только коллизии, но одновременно и субъективные возможности преодоления несоответствия культурных и социальных оснований в реализации ожиданий молодых людей. Это находит отражение в различных сферах жизнедеятельности.
В сфере образования – это противоречие между ценностью знаний и доступностью платного образования. На эмпирическом уровне ценность знания содержится в ответах на вопрос об отношении молодежи к знаниям: как главному достоянию человека или чему-то необязательному, что легко компенсируется наличием денег (табл. 1) .
Как видим, полностью платное образование доступно лишь незначительной части молодежи (8,6%), а для каждого второго (47,2%) оно практически не доступно. Однако среди респондентов, относящихся к знаниям как к главному достоянию, выше доля оценивающих доступность платного образования, признающих, что придется отказывать себе во
Таблица 1. Связь отношения к знанию с доступностью платного образования
|
Отношение к знаниям |
Доступность платного образования, % от числа ответивших |
||
|
Полностью доступно |
Доступно, но для этого придется отказывать себе во многом |
Практически не доступно |
|
|
Знания – это главное достояние человека |
9,0 |
46,1 |
44,9 |
|
В наше время без знаний можно обойтись, были бы деньги |
8,0 |
41,6 |
50,4 |
|
В целом среди молодежи |
8,6 |
44,2 |
47,2 |
|
Источник: исследование авторов. |
|||
многом (46,1%), а также ниже доля оценивающих его недоступность (44,9%) по сравнению с теми, кто считает, что без знаний можно обойтись при наличии денег (соответственно 41,6 и 50,4%). При этом доля малообеспеченных в обеих группах примерно одинаковая (61,2 и 63,6%). То есть налицо противоречие между ценностью знаний и доступностью платного образования, которое проявляется в несоответствии социальных условий в сфере образования когнитивным ценностям молодежи.
В сфере труда – противоречие между ценностью труда и возможностями самореализации в труде (табл. 2).
Терминальная ценность труда определялась набором следующих смысловых значений: ощущение своей полезности, внутренняя потребность, творчество, а инструментальная – возможность заработать, вынужденная необходимость, общение. Из таблицы 2 следует, что связь и терминальной, и инструментальной ценности труда с самооценкой респондентами возможности самореализации в данной сфере по большинству направлений самореализации не превышает 5 баллов по семибалльной шкале оценок. При этом респонденты, выделяющие терминальную ценность труда, оценивают свои возможности во всех направлениях самореализации, кроме бизнеса, существенно выше, по сравнению со сторонниками инструментальной ценности. Следовательно, противоречие возникает между ценностями труда, в которых во многом отражаются отношение молодежи к экономической политике, проводимой в стране, и ожидания от труда. А нереализованные ожидания приводят к протестным настроениям. Как видим, преодолению данного противоречия с большим успехом способствует терминальное отношение к труду со стороны его акторов, с меньшим успехом – инструментальное.
В семейной сфере – между ценностью семьи и неудовлетворенностью своим материальным положением (табл. 3) .
Терминальная ценность семьи определялась набором следующих смысловых значений: потребность (невозможно представить свою жизнь без семьи); цель (т. е. просто должна быть); любовь. Инструментальная – необхо-
Таблица 2. Связь ценности труда с возможностями самореализации в труде
|
Ценность труда |
Самооценка возможностей самореализации, К* |
|||||
|
Найти работу |
Повысить квалификацию |
Повысить зарплату |
Сделать карьеру |
Защитить свои права |
Сделать свой бизнес |
|
|
Терминальная |
4,93 |
5,38 |
4,66 |
4,59 |
5,24 |
3,33 |
|
Инструментальная |
4,65 |
4,84 |
4,07 |
3,94 |
4,82 |
4,89 |
|
* К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале оценок. Источник: исследование авторов. |
||||||
Таблица 3. Связь ценности семьи с удовлетворенностью материальным положением
|
Ценность семьи |
Самооценка удовлетворенности материальным положением, % от числа ответивших |
|
|
Не удовлетворены |
Удовлетворены |
|
|
Терминальная |
62,7 |
37,3 |
|
Инструментальная |
80,2 |
19,8 |
|
Источник: исследование авторов. |
||
димость (чувство долга или чувство неловкости без семьи); средство (для карьеры, комфорта); обуза. Большинство респондентов в обеих группах не удовлетворены своим материальным положением, причем среди разделяющих мнение о терминальной ценности семьи доля неудовлетворенных заметно ниже, чем среди сторонников инструментальной ценности (62,7% против 80,2). Следовательно, неудовлетворенность своим материальным положением является значимым основанием анализируемого противоречия в сфере семейных отношений молодежи. И вновь в качестве потенциала его преодоления в большей степени выступает терминальное отношение к семье, в меньшей – инструментальное.
Таким образом, в процессе саморегуляции жизнедеятельности молодежи возникающие противоречия культуры с социальными условиями способствуют достижению приемлемого соответствия между социокультурными способами реализации субъективных ожиданий молодых людей в различных сферах жизнедеятельности и объективными условиями их реализациии. Вступая в противоречия с социальными условиями, ценности, как основополагающие элементы культуры, выполняют в саморегуляции одновременно и консервативную, и конструктивную функцию. Эти противоречия реализуются молодыми людьми, т. е. акторами противоречий. Консервативная функция проявилась во всех анализируемых сферах жизнедеятельности в формировании смысловой направленности саморегуляции на обеспечение устойчивости, стабильности жизнедеятельности и реализовалась в более эффективном преодолении сторонниками терминальных ценностей целого ряда препятствий, возникающих в связи с недоступностью плат- ного образования, ограниченными возможностями самореализации в труде, неудовлетворенностью материальным положением в сфере семейных отношений. Конструктивная функция реализовалась в результате инструментализации отношения молодежи к образованию, труду, семье, способствуя поиску альтернативных способов для преодоления возникающих препятствий, в т. ч. обходных путей.
Противоречие бессознательного и осознанного в саморегуляции жизнедеятельности молодежи
Процесс взаимодействия бессознательных и осознанных форм по существу представляет собой переход бессознательных форм в осознанные. В связи с этим противоречие между бессознательным и осознанным носит опосредованный характер, поскольку в нем отражаются противоположности не в бессознательном, а в тех системах, которые проявись в групповом и индивидуальном сознании. В качестве таких систем в сфере образования выступают ценности знаний и ценности образования, противоположные стороны которых и лежат в основе противоречий с архетипами и менталитетом.
На основе разработанной ранее структуры архетипов [10, с. 194–196] проанализируем связь архетипов судьбы, добра, совести, спасителя, идеализации прошлого, разделяемых молодыми людьми, с противополжными позициями в их отношении к знаниям: «Знания – это главное достояние человека» или «В наше время без знаний можно обойтись, были бы деньги», а также терминальной и инструментальной ценностями образования. Смысл образования как терминальной ценности определялся набором смысловых значений – развитие способностей, потребность в познании, общая культура, инструментальной ценности – диплом, престиж, карьера (табл. 4) .
Таблица 4. Связь архетипов коллективного бессознательного с ценностями знаний и образования
|
Архетип |
Ценности знания, % от числа ответивших |
Ценности образования, % от числа ответивших |
||
|
Терминальная |
Инструментальная |
Терминальная |
Инструментальная |
|
|
Судьбы |
52,7 |
47,3 |
64,3 |
35,7 |
|
Добра |
61,3 |
38,7 |
73,0 |
27,0 |
|
Совести |
59,4 |
40,6 |
65,1 |
34,9 |
|
Спасителя |
58,3 |
41,7 |
47,6 |
52,4 |
|
Идеализации прошлого |
57,0 |
43,0 |
77,0 |
23,0 |
|
Средние значения |
57,7 |
42,3 |
65,4 |
34,6 |
|
Источник: исследование авторов. |
||||
Данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о наличии связи архетипов коллективного бессознательного с отношением молодежи к знаниям и образованию. Среди респондентов, полностью согласных с пословицами, отражающими перечисленные архетипы, присутствуют сторонники и терминальных, и инструментальных ценностей, причем значения терминальных ценностей заметно выше, чем инструментальных. Отмечается наиболее высокое значение связи с терминальными ценностями знаний и образования с архетипом добра (соответственно 51,3 и 73%). Соглашаясь со смыслом пословицы «Добро не умрет, а зло пропадет», молодые люди выразили оптимизм, сохраняющийся в коллективном бессознательном россиян, что повлияло на их отношение к знанию и к образованию преимущественно как к терминальной ценности. Видимо, вера в добро и самоценное отношение к образованию занимают общую позицию в коллективном бессознательном большинства молодежи. Это подтверждается ответами и на вопрос «Верите ли Вы, что добро всегда вознаградится?». Среди респондентов, положительно ответивших на него, для 56,7% знания являются терминальной ценностью, для 43,3% – инструментальной. Однако под влиянием жизненных ситуаций картина меняется. Ответы на вопрос «Верите ли Вы, что недобрым людям живется лучше, чем добрым?» показали, что среди тех, кто верит, уже 47,1% респондентов считают знания главным достоянием человека, а 52,9% придерживаются мнения, что в наше время без знаний можно обойтись, были бы деньги. То есть в современной реальности связь архетипа добра с отношением к образованию наполняется новыми смыслами.
Наименее значимая связь с терминальной ценностью знания отмечается у архетипа судьбы (52,7%), выразившегося в согласии с поговоркой «Чему быть – того не миновать». Смыслы, заложенные в данном архетипе, отражая зависимость от стечения обстоятельств и предполагая возможность отстраниться от ответственности за неудачи в жизни, в т. ч. и в учебе, не одинаково трактуются молодыми людьми в разных жизненных ситуациях. Для подтверждения этого вывода респонденту было предложено определить свою жизненную позицию, выбрав одну из двух альтернативных пословиц:
«От судьбы не убежишь» и «На Бога надейся, а сам не плошай». Со второй пословицей, отражающей важность собственной позиции, согласились 58,2% респондентов, разделяющих терминальную ценность знания, и 41,8% – инструментальную.
Аналогично прослеживаются противоречия между остальными архетипами коллективного бессознательного и отношением молодежи к знаниям и образованию, выявленные и описанные нами прежде [10, с. 291–295]. Средние суммарные значения связи архетипов с терминальными и инструментальными ценностями знания составляют соответственно 57,7 и 42,3%, с ценностями образования – 65,4 и 34,6%. В этих противоречиях отражается противоборство смыслов образования и знаний, возникающее в процессе их рационализации при переходе от бессознательного в групповое и индивидуальное сознание.
Данная тенденция также прослеживается в противоречии между менталитетом и отношением молодежи к знаниям и образованию. Суммарные средневзвешенные коэффициенты связи ментальных черт национального характера (любовь к своему отечеству, милосердие, честь, достоинство, любовь к ближнему, подозрительность в отношении к иностранцам), оцениваемые по семибалльной шкале, с терминальными и инструментальными ценностями знания составили соответственно 4,99 и 4,93, с ценностями образования – 5,02 и 4,88. Следовательно, в противоречии между ментальностью, восходящей к бессознательному слою духовной жизни, и ценностными структурами в сфере образования также отражаются противоположности рационального отношения молодежи к знаниям и образованию.
В сфере труда в качестве основы противоречия между бессознательным и рациональным выступает, с одной стороны, архетип труда (вопрос «Какая из перечисленных пословиц больше соответствует Вашей жизненной позиции?»), с другой – рассмотренные выше терминальные и инструментальные ценности труда. Анализировались следующие пословицы, содержащие альтернативные представления об отношении к труду: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», «Работа дураков любит», «Труд человека кормит, а лень портит», «Ешь – потей, работай – зябни».
Таблица 5. Связь архетипов с ценностью труда
|
Архетип |
Связь с ценностью труда, % от числа ответивших |
|
|
Терминальная ценность труда |
Инструментальная ценность труда |
|
|
Позитивная направленность |
26,0 |
74,0 |
|
Негативная направленность |
11,2 |
88,8 |
|
Источник: исследование авторов. |
||
Проанализируем связь позитивно и негативно направленных архетипов (средние значения связи по каждой пословице) с ценностью труда (табл. 5) .
Из таблицы 5 следует, во-первых, что значение терминальной ценности труда в группах с позитивной направленностью архетипов (26%) более чем в два раза превышает ее значение в группах с негативной направленностью (11,2%). Во-вторых, в настоящее время явно выражена тенденция инструментализации труда, в которой отражается влияние нарастающего динамизма, изменчивости, неопределенности в данной сфере. В этих условиях усиливается противоречие исторически сформировавшегося двойственного отношения к труду. С одной стороны, возрастает доля сторонников терминальной ценности труда среди разделяющих позитивную направленность архетипа, с другой – повышается доля сторонников инструментального отношения к труду среди приверженцев негативной направленности архетипа.
Анализ связи ментальных черт национального характера с отношением к труду подтверждает вывод о противоречии между бессознательным и рациональным в этой сфере. Суммарные средневзвешенные коэффициенты связи ментальных черт с терминальными и инструментальными ценностями труда составили, соответственно, 4,96 и 4,83. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне связи (выше среднего, равного четырем баллам) ментальных черт, присущих молодежи, и с терминальными, и с инструментальными ценностями труда. Следовательно, противоречие между менталитетом и ценностями труда представляет собой взаимодействие противоположностей терминального и инструментального отношения молодежи к труду.
В семейной сфере противоречие между бессознательным и рациональным также отражает процесс раздвоения ценностей семьи на терминальные и инструментальные. При этом все анализируемые архетипы более тесно связаны с терминальными ценностями (среднее значение связи равно 88,9%) по сравнению с инструментальными (10,9%). Это свидетельствует, во-первых, о доминирующей роли архетипов в воспроизводстве молодежью традиционных терминальных ценностей семьи, во-вторых, о влиянии современных инструментальных ценностей семьи как диалектической противоположности в противоречии с бессознательным на развитие форм семейных отношений в изменяющейся реальности.
Об устойчивости этих процессов можно судить, проанализировав связи ментальных черт национального характера, оцениваемые молодежью на основе семибалльной шкалы, с отношением к семье. Суммарные средневзвешенные коэффициенты связи ментальных черт с терминальными и инструментальными ценностями семьи составили, соответственно, 5,05 и 4,51. Отсюда следует, что противоречие, формирующееся в архетипических структурах коллективного бессознательного, закрепляется в ментальных чертах, определяя специфику терминального и инструментального в семейных отношениях нынешнего поколения молодежи.
Таким образом, в результате анализа было подтверждено наличие связи архетипических и ментальных структур коллективного бессознательного с рациональными основаниями саморегуляции в различных сферах жизнедеятельности молодежи. В качестве значимого основания саморегуляции выступает раздвоение ценностей образования, труда, семьи на терминальные и инструментальные, образующие диалектические противоположности противоречий саморегуляции. Как показал анализ, эти противоположности определяют, хотя и в разной степени, содержание терминального и инструментального отношения молодежи к образованию, труду, семье. Если в образовании и, особенно, в семейной сфере доминируют терминальные смыслы, то в труде соче- таются и терминальные, и инструментальные. То есть противоречие между бессознательным и рациональным проявляется как противоборство смыслов, терминального, самоценного и инструментального, рационального отношения к объектам социальной реальности.
Противоречие традиционного и современного в организации социальной жизни молодежи
В саморегуляции образования противоречие традиционного и современного прослеживается в столкновении терминальной (традиционной) и инструментальной (современной) ценности образования. Как отмечалось, смысл образования как терминальной ценности определялся набором смысловых значений – развитие способностей (21,4%), потребность в познании (12,7%), общая культура (5%), а инструментальной – диплом (17,3%), престиж (5,9%), карьера (37,8%). В целом образование как терминальную ценность воспринимают 31,9% респондентов, как инструментальную – 60,9%. Тенденция инструментализации отношения молодежи к образованию характерна для всего постсоветского периода, прежде всего она связана с реформами, осуществленными в стране в данной сфере. Эту тенденцию подтвердили итоги ранее проведенных исследований [24, с. 129–132]. В результате реформирования системы образования в сознании молодых людей деформируются исторически сложившиеся смысловые основания, традиционно определяющие самоценное значение процесса познания. Они вытесняются рациональными смыслами, в которых образование рассматривается в качестве средства достижения других целей, не связанных с познанием. В связи с этим противоречие терминальной (традиционной) и инструментальной (современной) ценности образования проявляется как взаимное отрицание смыслов, отражающих, с одной стороны, стремление к познанию, с другой – к получению статуса.
Это подтверждается анализом ценности знания. Терминальный смысл знания, содержащийся в суждении «К получению знаний нужно стремиться всегда для общего развития, даже если они не востребованы в практической жизни», близок 54,5% респондентов, а инструментальный, содержащийся в суждении «Знания не самоцель, а средство решения поставленных задач» – 45,5%. Следовательно, знания остаются доминирующей ценностью молодых людей, которая под влиянием инструментализации отношения к образованию, вследствие его реформирования, входит в противоречие со стремлением к получению статуса, уступая ему свое место.
В саморегуляции труда анализируемый процесс проявляется в противоречии между терминальным и инструментальным отношением молодежи к труду. Труд как терминальная ценность определялся набором следующих смысловых значений: ощущение своей полезности (13,3%), внутренняя потребность (6,2%), творчество (4,6%), в сумме 24,1%. Инструментальная – заработок (61,9%), вынужденная необходимость (12,4%), общение (1,5%), в сумме 75,9%. Следовательно, противоречие выражается в доминировании инструментальной ценности труда.
Многочисленные исследования позволяют говорить об укорененности этого противоречия в культуре, что связано не только с актуальным противостоянием традиций и модерна, но и с особенностями исторически сложившихся трудовых отношений, воспроизводившихся в российском обществе в исторической ретроспективе [24, с. 261–269; 25]. С одной стороны, в них утверждался приоритет «благоговейного отношения к труду, необходимого для души и тела», основанного на православной культуре. Традиция самоценного отношения к труду продолжилась в советский период в провозглашении труда первой жизненной потребностью. А с другой стороны, в России во все времена прослеживалось вляние эксплуатации труда, формирующее инструментальное отношение к нему. Противоречивое отношение к труду отразилось в фольклоре: «Работа дураков любит» и «Работа человека кормит, а лень портит». То есть в пословицах присутствует двойственное отношение к труду (и инструментальное, и терминальное), которое воспроизводится в жизненной позиции современного поколения российской молодежи.
Следовательно, противоречие традиционного и современного в сфере труда не сводится к противоположностям смыслов между терминальным и инструментальным отношением к нему. Наоборот, терминальные и инструментальные смыслы присутствуют и в традиционном, и в современном отношениии к труду. Противоречие формируется в результате раз- двоения ценностей, образующего диалектические противоположности в форме традиционных и современных ценностей труда, которые выступают источником развития и труда, и отношения к нему молодежи.
В сфере семейных отношений анализируемое противоречие еще более наглядно проявляется в раздвоении отношения к семье на терминальное (традиционное) и инструментальное (современное). Семья традиционно считается терминальной ценностью, что подтверждается результатами исследования. Самоценное отношение к семье характерно для 86,3% молодежи, а инструментальное – для 13,7%. Противоречие возникает между традиционным и современным отношением к семье как диалектическими противоположностями, проявляясь в различных формах ее организации – типах брачных отношений, способах гендерного распределения ролей, желаемом количестве детей, отношении к детям и др. Рассмотрим, как связано терминальное и инструментальное отношение молодежи к семье с различными формами ее организации (табл. 6).
Анализируемые формы организации семьи подразделяются на традиционные и современные. К традиционным формам относятся «церковный («венчанный») и гражданский официально зарегистрированный брак», «муж – глава семьи», «многодетная семья», «авторитарное отношение к детям», к современным – «незарегистрированный брак (сожительство)», «равноправное распределение ролей в семье», «однодетная семья», «либеральное отношение к детям». Среди молодежи, разделяющей терминальное отношение к семье, 86,2% являются сторонниками традиционных форм ее органи- зации, 75,0% – современных, инструментальное – соответственно 13,8 и 25,0%. Как видим, терминальное отношение к семье, присущее традиционной культуре россиян, способствует преимущественному воспроизводству молодежью традиционных форм ее организации, а инструментальное – современных, поэтому базовое противоречие в данной сфере проявляется в борьбе традиционных и современных форм отношения молодежи к семье, что в повседневной жизни зачастую приводит к семейным конфликтам. По признанию многих социологов, такая борьба стала причиной кризиса семьи как социального института. На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что современное российское общество переживает кризис семьи?» утвердительно ответили 21,4% респондентов, скорее согласны – 52,3% молодежи.
Таким образом, проведенный анализ позволил определить общее и особенное в противоречиях традиционного и современного в саморегуляции различных сфер жизнедеятельности молодежи. Общее состоит в том, что в основе анализируемых противоречий лежит раздвоение отношения к образованию, труду и семье, образующее диалектические противоположности в форме традиционных и современных ценностей. Особенное отражается в способах разрешения противоречий, притом что противоречия, не получившие разрешения, не приводят к развитию. В сфере образования это проявилось в его неэффективном реформировании, следствием которого стала девальвация традиционных ценностей образования. В сфере труда исторически сложившаяся тенденция инструментализации его ценности в нынешних условиях усилила противоречие между тради-
Таблица 6. Связь терминального и инструментального отношения к семье с формами ее организации
|
Отношение к семье |
Формы организации семьи, % от числа ответивших |
|||||||
|
По типу брачных отношений |
По распределению ролей в семье |
По желаемому количеству детей в семье |
По отношению к детям |
|||||
|
ill о 8" m |
S3 m zc |
E 5 * s s |
g g CD m Ф ” 5 “ 2 о ” re ° |
о ф О |
S 3 3 |
о. о S О ^ ^ |
§ з S ш ° 15" |
|
|
Терминальное |
86,2 |
75,0 |
85,3 |
57,1 |
80,4 |
90,6 |
82,7 |
69,7 |
|
Инструментальное |
13,8 |
25,0 |
14,7 |
42,9 |
19,6 |
9,4 |
17,7 |
30,3 |
Источник: исследование авторов.
ционным и современным отношением к труду. В семейной сфере противоречие проявилось в несоответствии стремления молодежи к современным формам организации семьи доминирующим в обществе традиционным формам, что привело к перерастанию противоречий в конфликт. То есть особенное в разрешении противоречий состоит в разных формах нарушения гармонии между традиционным и современным в саморегуляции жизнедеятельности в различных ее сферах. Учитывая особую роль молодежи в общественном воспроизводстве, противоречия в механизме саморегуляции ее жизнедеятельности возникают между традицией как простым воспроизводством и инновацией как основанием для социальных изменений.
Противоречие объективного и субъективного в конструировании молодежью социальной реальности
В сфере образования противостояние объективного и субъективного выражается в противоречии между образовательным статусом (уровнем образования) и удовлетворенностью полученными знаниями (табл. 7) .
Данные в таблице 7 свидетельствуют о противоречии между достигнутым молодыми людьми уровнем образования и неудовлетворенностью полученными знаниями. Не удовлетворены в разной степени средним общим образованием 21,7% респондентов, средним профессиональным образованием – 35,2%, высшим образованием первого уровня – 23,2%, высшим второго уровня – 21,4%. То есть субъективные представления и ожидания молодых людей входят в противоречие с их объективным положением в сфере образования. Оно проявляется, с одной стороны, в реальном снижении качества образования, связанном с последствиями реформирования, что отражается в снижении приобретенного образовательного статуса, а с другой – в неудовлетворенности полученными знаниями, что становится стимулом активизации молодежи для преодоления противоречия.
В сфере труда противоречие возникает между условиями, характером, содержанием труда в различных сферах производства (объективная сторона) и ожиданиями молодежи (субъективная сторона). По существу, это противоречие между реальным положением молодых людей, занятых в разных сферах производства, и конструируемым ими образом труда. Проанализируем, как связаны объективные условия труда в материальном, духовном производстве, социальном обслуживании, сфере распределения и обмена с ожиданиями молодежи от труда в этих сферах, а также оценкой собственных возможностей в реализации этих ожиданий (табл. 8) .
Из анализа данных, представленных в таблице 8, следует, что в зависимости от реальных условий труда в различных сферах производства существенно различаются и ожидания молодежи от собственного труда, и возможности их реализации. Противоречия возникают во всех сферах, где ожидания не совпадают с оценкой возможностей, о чем свидетельствует высокая доля респондентов, оценивших их по семибалльной шкале ниже среднего уровня. В наибольшей степени – в сфере социального обслуживания в связи с ожиданиями повышения зарплаты (71,4%) и оценками возможностей их реализации ниже среднего уровня (60,1%). В сфере материального производства – в связи с ожиданиями повышения своей профессиональной квалификации (38,8%) и оценкой возможностей ниже среднего уровня (46,9%). В духовном производстве – в связи с ожиданиями получить интересную творческую работу (84,0%) и низкой оценкой возможностей
Таблица 7. Связь уровня образования с удовлетворенностью знаниями
|
Уровень образования |
Удовлетворенность знаниями, % от числа ответивших |
||||
|
Полностью удовлетворен |
Скорее удовлетворен |
Скорее не удовлетворен |
Не удовлетворен |
Затрудняюсь ответить |
|
|
Среднее общее |
12,3 |
48,6 |
15,9 |
5,8 |
17,4 |
|
Среднее профессиональное |
12,0 |
32,8 |
24,0 |
11,2 |
20,0 |
|
Высшее бакалавриат |
17,9 |
39,3 |
16,1 |
7,1 |
19,6 |
|
Высшее магистратура |
11,8 |
56,9 |
15,7 |
5,7 |
10,0 |
|
Источник: исследование авторов. |
|||||
Таблица 8. Связь объективных условий труда в различных сферах производства с ожиданиями молодежи и возможностями их реализации
|
Сфера производства |
Ожидания, %* |
Оценка возможностей, % от числа ответивших |
||||||||||
|
в 1 с 1 |
g 11 м |
ГО ГО" [= |
1 * EI |
o^l |
ro |
1 * EI |
||||||
|
В** |
Н*** |
В |
Н |
В |
Н |
В |
Н |
|||||
|
Материальное производство (промышленность, сельское хозяйство, транспорт) |
20,0 |
38,8 |
85,0 |
22,5 |
58,8 |
41,2 |
53,1 |
46,9 |
53,2 |
46,8 |
66,9 |
33,1 |
|
Духовное производство (культура, образование, наука) |
84,0 |
48,0 |
68,0 |
24,0 |
78,0 |
22,0 |
82,0 |
18,0 |
62,0 |
38,0 |
64,0 |
36,0 |
|
Социальное обслуживание (здравоохранение, юриспруденция, правоохранительная деятельность) |
22,9 |
37,1 |
71,4 |
34,3 |
51,5 |
48,5 |
59,9 |
40,1 |
39,9 |
60,1 |
49,9 |
50,1 |
|
Распределение и обмен (финансово-банковская деятельность, сфера услуг, торговля) |
31,6 |
34,2 |
78,9 |
34,2 |
59,2 |
40,8 |
61,9 |
38,1 |
56,6 |
43,4 |
56,4 |
43,6 |
*В сумме больше 100%, т. к. допускался выбор нескольких вариантов ответа.
**В – возможности выше среднего уровня; ***Н – возможности ниже среднего уровня.
Источник: исследование авторов.
(22,0%). В сфере распределения и обмена – в связи с ожиданиями продвинуться по службе (34,2%) и низкой оценкой возможностей (43,6%). Таким образом, противоречия между объективным положением молодежи в сфере труда и ее субъективными ожиданиями отражают наиболее актуальные и значимые аспекты саморегуляции ее трудовой деятельности.
В семейной сфере данное противоречие проявляется в наиболее общей форме – между желаемым и действительным. В частности, его можно проанализировать, сравнив желаемое молодежью количество детей (субъективная сторона противоречия), с реально существующим (объективная сторона). Как показало исследование, среди молодежи в возрасте 25–29 лет ориентированы на бездетную семью 5,7%, однодетную – 23,6%, двудетную – 57,9%, на трехдетную и более – 12,9%. В действительности в данной возрастной группе отмечается следующий состав семьи: ни одного ребенка (39,3%), один ребенок (45%), два (15%), три и более (0,7%). Следовательно, планирование се- мьи не реализовалось, причем и в более старшей возрастной группе (30–39 лет), в которой 19,9% бездетных семей, 41,9% – однодетных, 34,3% – двудетных и 3,8% – многодетных. То есть реальность вносит свои коррективы, усиливая противоречие в саморегуляции отношений в семье.
Таким образом, анализ противоречий объективного и субъективного в различных сферах жизнедеятельности молодежи показал, что в них отражаются, с одной стороны, существующие проблемы объективной действительности, которые являются значимыми факторами саморегуляции жизнедеятельности, с другой стороны, субъективное отношение молодежи к этим проблемам, от степени адекватности которого зависит выбор средств и способов реализации возникающих противоречий. Несмотря на различие проблем, общим в реализации данного типа противоречий является формирование активной жизненной позиции молодежи как условия становления ее социальной субъектности.
Противоречия как источник развития в механизме саморегуляции
Проведенный анализ позволил представить саморегуляцию как развивающийся процесс, определив фундаментальные противоречия, являющиеся источниками развития жизнедеятельности молодежи. Понимание сущности развития содержится в противоположностях, образованных в результате раздвоения взаимосвязанных элементов социокультурного механизма саморегуляции. В соответствии с законом единства и борьбы противоположностей «…все формы человеческой активности осуществляются путем раздвоения единого на различное и противоположное, а взаимодействие противоположных сил, с одной стороны, характеризует определенную систему как нечто единое, а с другой – составляет внутренний импульс ее изменения, развития» [1, с. 241].
Противоречия возникают в структурах, образованных в процессе взаимодействия элементов механизма социокультурной саморегуляции. Эти стуктуры представляют собой единство различных по функциональной направленности и противоположных по смысловому содержанию элементов механизма. Во взаимодействии различных и противоположных сторон элементов в образованных структурах содержится источник развития, определяющий направленность саморегуляции молодежью жизнедеятельности в образовании, труде, семейной и других сферах.
В противоречии культурных и социальных сторон элементов механизма выделяются противоположности, отражающие реализацию консервативной и конструктивной функций культуры во взаимодействии с социальными условиями в различных сферах жизнедеятельности молодежи. В зависимости от социальных условий молодые люди выбирают жизненные стратегии, направленные на устойчивое развитие (реализация консервативной функции культуры) или изменения (реализация конструктивной функции).
В противоречии между структурами коллективного бессознательного и рациональными основаниями саморегуляции противоположные стороны образуются посредством раздвоения ценностей, формирующихся в процессе перехода от бессознательных к осознанным фор- мам, на терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства). В связи с этим источником развития становятся противоположности, в качестве которых, с одной стороны, выступают смыслы, воспроизводимые молодежью в архетипических и ментальных чертах коллективного бессознательного и закрепленные в сознании в терминальных ценностях, а с другой – смыслы, представленные в инструментальных ценностях, являющиеся следствием повседневного опыта, накопленного в многообразных взаимодействиях молодых людей. Если в первом случае ценностью выступает сам объект саморегуляции (он же – цель саморегуляции), то во втором объект оценивается как средство достижения этих целей. В противоборстве противоположных смыслов определяется соответствующая направленность развития молодежи, основанная на самоценном (терминальном) или инструментальном отношении к объектам окружающей действительности в различных сферах ее жизнедеятельности.
Раздвоение ценностей на терминальные и инструментальные также лежит в основе противоречия традиционного и современного в саморегуляции различных сфер жизнедеятельности молодежи. Унаследуя культуру, созданную предыдущими поколениями, молодежь воспроизводит и традиции, присущие ей. Традиционное терминальное отношение к объектам социальной реальности обусловлено самим фактом существования самоценного отношения к семье, знаниям, труду в прошлом, воспроизводство которого молодежью подтверждается результатами исследований. Вместе с тем исследования свидетельствуют о нарастающей тенденции инструментализации отношения к различным объектам реальности в современных условиях, являющейся следствием реализации инновационной социально-групповой функции. Следовательно, в противоречии между традиционным и современным в качестве противоположных сторон выступают традиции и инновации. Доминирование традиций способствует направленности процесса саморегуляции на простое воспроизводство основных сфер жизнедеятельности молодежи, инноваций – на расширенное, обеспечивающее ее социальное развитие.
Противоречие объективного и субъективного в саморегуляции жизнедеятельности молодежи с позиций феноменологической социологии знания рассматривается как раздвоение сущности социальной реальности на объективную действительность и конструируемую молодыми людьми собственную реальность. В качестве образующихся при этом противоположностей выступают, с одной стороны, социальное положение молодежи в различных сферах ее жизнедеятельности, а с другой – конструируемый образ реальности в этих сферах. Источником развития в данном случае становится несоответствие ожиданий молодежи, связанных с реальным и конструируемым социальным статусом. В своих крайних проявлениях оно приобретает одинаково деструктивные формы, как в завышенных ожиданиях, приводящих к разочарованиям, так и в недооцененных ожиданиях, ограничивающих возможности их реализации.
Все рассмотренные противоречия выступают источником развития не сами по себе, а в процессе их разрешения, необходимыми условиями которого являются достижение согласия, разумного компромисса, поиск альтернативных решений, направленных на гармонизацию противоположных сторон противоречий, обеспечивающую развитие в саморегуляции жизнедеятельности молодежи.
Список литературы Жизнедеятельность молодежи в изменяющейся реальности: противоречия саморегуляции
- Спиркин А.Г. Основы философии. М.: Политиздат, 1988. 594 с.
- Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежь в культурном пространстве: саморегуляция жизнедеятельности. М.: Норма, 2020. 304 с.
- Зубок Ю.А. Молодежь: жизненные стратегии в новой реальности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 4—12.
- Зубок Ю.А., Чупров В.И. Жизненные стратегии молодежи: реализация ожиданий и социальные настроения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 13-41.
- Furlong A., Evans K. Metaphors of youth transitions. Youth, citizenship and social change in a European context. J. Bynner, L. Chisholm and A. Furlong (eds.). Ashgate, 1997.
- Furlong A., Stalder B., Azzopardi A. Vulnerable Youth: Perspectives on Vulnerability on Education, Employment and Leisure in Europe. International Expert report. Council of Europe Publishing, 2000.
- Williams C., Chuprov V., Zubok J. Youth, Risk and Russian Modernity. Aldershot, Eng.: Ashgate, 2003.
- Mitev P.-E., Kovacheva S. Young people in European Bulgaria. A Sociological Portrait. 2014.
- Kelly P. and Kamp A. eds. A Сгitical Youth Studies for the 21 st Century. Brill Leiden, 2014.
- Carabelli G., Lyon D. Young people's orientations to the future: navigating the present and imagining the future. Journal of Youth Studies, 2016, vol. 19, no. 8, pp. 1110-1127. DOI: 10.1080/13676261.2016.1145641
- Bessant J., Farthing R., Watts R. The Precarious Generation: A Political Economy of Young People. London: Routledge, 2017.
- Zaremohzazzabieh Z., Ahrari S., Krauss S.E., Samah A.A., Omar S.Z. Youth Work in a Digital Society. IGI Global, 2020.
- Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи. 50 лет исследования / Д.Л. Константиновский, М.А. Обрамова, Е.Д. Вознесенская [и др.]. М.: ЦСП и М, 2015. 232 с.
- Woodman D., Wyn J. Youth and Generation: Rethinking Change and Inequality in the Lives of Young People. Sage, 2014.
- Crofts J., Cuervo H., Wyn J., Smith G., Woodman D. Life Patterns Ten years following Generation Y. Youth Research Centre. Melbourne Graduate School of Education. The University of Melbourne. Available at: https:// www.academia.edu/28899479/Life_Patterns_Ten_years_following_Generation_Y. (дата обращения 29.04.2020).
- Wyn J., Cahill H., Woodman D., Cuervo H., Leccardi C., Chesters J. Youth and the New Adulthood: Generations of Change. Springer Singapore, 2020.
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 2. Теория и методология. Новосибирск, 1998. 600 с.
- Темницкий А.Л. Традиции и инновации в трудовой культуре российских рабочих // Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 115—181.
- Колбановский В.В. Социальные традиции и инновации: (исторический контекст, теоретические подходы и определение понятий) // Вестник Института социологии. 2012. № 4. С. 1—23.
- Традиции и инновации в современной России: социологический анализ взаимодействия и динамики: монография / [А.Б. Гофман и др.]; под ред. А.Б. Гофмана. М.: РОССПЭН, 2008. 541 с.
- Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
- Колбановский В.В. Антропосоциетальная теория и её значение для теоретической социологии: размышления над «Общей социологией» Н.И. Лапина // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 136-152.
- Лапин Н.И. Социетальная социология. Узловые проблемы и программа курса // Социологические исследования. 2001. № 8. С. 112-129.
- Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А. Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства. М.: Норма, 2014. 352 с.
- Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодежи // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 6. С. 243-259.