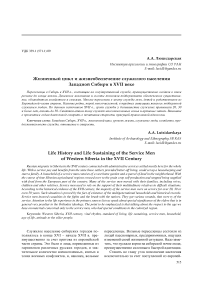Жизненный цикл и жизнеобеспечение служилого населения Западной Сибири в XVII веке
Автор: Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XXII, 2016 года.
Бесплатный доступ
Переселенцы в Сибирь в XVIIв., состоящие на государственной службе, преимущественно оседали в этом регионе до конца жизни. Денежное жалование и льготы позволяли поддерживать обеспеченное существование, обзаводиться хозяйством и семьями. Многие переселяли к месту службы жен, детей и родственников из Европейской части страны. Наличие родни, порой многочисленной, в трудных ситуациях являлось поддержкой служилым людям. По данным источников XVII в., сроки службы у большинства служилых превышали 20, 30 и более лет, вплоть до 50. Свидетельством тому служат многопоколенные семьи и архивные записи. Внимание к прожитым годам дает повод говорить о почитании старости, присущей православной идеологии.
Западная сибирь, xviiв, жизненный цикл, уровень жизни, служилые люди, хозяйство, продолжительность службы, отношение к старости
Короткий адрес: https://sciup.org/14522433
IDR: 14522433 | УДК: 339.1
Текст научной статьи Жизненный цикл и жизнеобеспечение служилого населения Западной Сибири в XVII веке
Служилое население сибирских городов пополнялось в конце XVI – начале XVII в. преимущественно за счет притока из европейской части страны. Это были и лица, переведенные из гарнизонов различных русских городов, и значительное количество военнопленных, взятых в зонах военных конфликтов, и, наконец, вольные переселенцы. Вольные переселенцы состояли из людей пассионарных, предприимчивых, ищущих изменений своей жизненной ситуации. Надо заметить, что пускали корни на сибирской почве люди, преимущественно склонные к быстрой адаптации.
Ставить во главу угла пополнение населения исключительно за счет поступлений из европей- ской части государства было бы неверно. Уже с первой трети XVII в. можно выявить естественный прирост населения. Обзаведение семьями в пределах Сибири и перевод жен и детей из русских городов на места дислокации сибирских служилых людей отмечались на протяжении всего рассматриваемого периода. Так, конный казак Кузнецкого острога просил позволить ему отправить в Сибирь из Устюга жену с сыном и брата с женой и детьми (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стлб. 136. Л. 21). Обзаведение жилищем и хозяйством в широком смысле этого слова имело значение для продуктивного функционирования служилых казаков и представителей местной администрации на протяжении всех периодов их жизни.
Определить продолжительность жизненного цикла у служилого сословия Сибири на разных этапах его становления возможно по косвенным сведениям и по составу семей, а также по складывающейся военно-политической и экономической обстановке в регионе.
Несмотря на отдельные враждебные стычки с аборигенным населением, которые имели место на протяжении длительного периода в Западной Сибири и еще более интенсивного в восточных регионах края, все же во второй половине XVII в. наметилась стагнация в военно-политической обстановке. Поэтому, судя по архивным источникам, в Западной Сибири смерть «на поле брани» считалась неординарным событием, а, учитывая многократные столкновения казаков с противниками, полученные в боях ранения и увечья лечили и вылечивали средствами народной медицины.
Источниками для изучения длительности жизни сибирских служилых людей являются сведения о многопоколенных семьях и данные о казаках и вообще о служилых людях с указанием сроков их службы, а также сравнительные характеристики людей, появляющиеся в документах в разные отрезки времени.
Томский источник 1667 г. предоставляет редкие сведения о возрастах томских служилых людей, что позволяет проследить судьбы некоторых представителей этой категории населения [Люцидарская, 1992, с. 104–105]. Становится известно, что у конного казака Ивана Канаева было 6 сыновей, пятеро из них обзавелись семьями и к 1703 г. пребывали в возрасте от 46 до 56 лет. Братья казаки Петр и Иван Згибневы в 1703 г. достигли 58 и 61 лет, а возраст служилого человека Андрея Бубенного в этот же период был равен 56 годам. Сыну боярскому Григорию Старкову было около 50 лет, а его брат, татарский голова Василий Старков, имел сына в возраст которого превышал 40 лет. Все эти отцы взрослых сыновей состояли на государевой службе и, достигнув зрелого возраста, продолжали выполнять свои служебные обязанности. Дальнейший анализ возрастного состава служилого люда лишь подтверждает эти предварительные предположения.
В приложениях к монографии И.П. Каменецкого, посвященной населению Кузнецка в XVII – начале XVIII в., приведен текст разборного списка кузнецких служилых людей за 1680–1681 гг. Этот документ содержит интереснейшие сведения о возрасте кузнечан, в основной массе – конных казаков. В источнике упомянуто 67 казаков, преимущественно конных, возраст которых поддается определению. Вот одна из подобных записей: «...Конный казак Сенька Осипов сказал: отец мой Осип родом Великие Перми Еренского горотка, посадский человек, пришел в Кузнецкой охотою, в Кузнецком, воевода Федор Ханенев верстал отца моего в пешую службу в десятники, а оклад отцу моему учинил денег пять рублев с полтиною... и служит отец мой Осип в Кузнецком в пешей ка-зачей службе лет с пятьдесят, а я Сенька верстан в Кузнецком в конную казачую службу... по челобитью отца своего крестного Кузьмы Еремеева, а он Кузьма верстан был в конную службу на Москве, и в Кузнецком служил государеву службу лет с пятьдесят...» [Каменецкий, 2005, с. 307].
Если учесть, что отец казака Семена Осипова появился в Кузнецке в возрасте около 18-20 лет и в таком же возрасте в сибирском остроге оказался его крестный отец, то получается, что их возраст превышал 60 лет проживания в Кузнецком остроге. Надо заметить, что этот город находился в неспокойном с точки зрения военно-политической обстановки месте.
Из детального анализа кузнецкого источника начала 1680-х гг. следует, что из 67 казаков 12 человек провели на государевой службе более 50 лет, преимущественно в Сибири. Казаки, служившие от 40 до 50 лет составили наиболее многочисленную группу, их было 29 человек. Разумеется, эти данные нельзя рассматривать как исчерпывающие, тем не менее они выявляют общее возрастное состояние корпуса служилых казаков в Западной Сибири во второй половине XVII в. Разрозненные данные по различным городам подтверждают это предположение.
Определенным мерилом для возрастного состава служилого населения могут служить многопоколенные семьи казаков. Так, среди конных казаков Томска в начале XVIII в. (1703 г.) многопоколенные семьи составляли около 20 %, а среди пеших – 18 %. Это вполне сопоставимые между собой цифры. Обращает внимание то, что большинство упомянутых выше служилых людей Кузнецкого острога, прослужив 50 лет, не покидали службы в пользу сыновей, а продолжали выполнять свои обязанности, хотя, по всей вероятности, их возраст переваливал за 60 лет. Подтверждением этому предположению может служить жизненный путь красноярского сына боярского Севостьяна Самсонова, прибыв- шего в Сибирь в возрасте приблизительно 18 лет. Длительное время он находился в казачьем чине, ставил Красноярский острог, в его послужном списке «дальние посылки» по службе. Самсонов, достигнув высшего служилого чина, сына боярского, в возрасте, превышающем 55 лет, был готов продолжать службу [Миллер, 2000, с. 628].
Сохранению работоспособности в зрелом возрасте способствовали прежде всего уровень жизнеобеспечения семьи на протяжении длительного периода времени. К этим факторам можно отнести обладание обустроенным жильем (двором или дворами), «приусадебным» хозяйством, заимками в уезде, регулярное получение денежного государева жалованья (оклада и надбавок), и, наконец, наличие взрослых сыновей, а также родственников и свойственников. Отцы и дети, родные и двоюродные братья поселялись по возможности вблизи друг от друга, особенно это справедливо для жителей уезда. Деревни часто формировались из представителей одной фамилии, а пахотные угодья распределялись по паям между членами единого семейного клана. Это в определенной мере гарантировало в экстренных ситуациях сохранение привычного прожиточного минимума.
Подобные утверждения справедливы для служилого населения большинства сибирских городов Западной Сибири первой трети XVII в. Во второй половине XVII в. все большее число жителей из служилой среды обретали стабильность и материальную устойчивость. Это, естественно, положительно сказывалось и на продолжительности жизни. Разумеется, в различных областях Западной Сибири условия проживания имели свои отличия.
Сразу же следует выделить районы развитого или развивающегося земледелия, жизнеобеспечение в которых с точки зрения наличия продуктов питания находилось на высоком уровне. В усадьбах горожан, как правило, имелись участки, иногда очень обширные, где выращивались огородные культуры, особое значение придавалось заготовкам капусты, неслучайно зачастую огороды так и именовались – «капустниками». Исходя из сведений о ввозе семян в Сибирь из центральной России, овощной рацион был разнообразен, но преобладали в нем капуста и репа. Во второй половине XVII в. ассортимент овощных культур только расширялся. Использовали переселенцы и дикоросы, такие как лук и чеснок [Люцидарская, 2004, с. 78–81].
Северные города, такие как Сургут, Березов и иные поселения, расположенные в зоне не пригодной для выращивания зерновых и овощных культур, находились в зависимости от государственных поставок. Однако эти местности располагались в бассейнах рек, изобилующих рыбными ресурсами. В периоды задержек поступления хлебного жалования русские переселенцы приближа- ли свой рацион к традиционной системе питания аборигенного окружения.
Крупы различного достоинства продолжали поступать из европейской части страны, однако ввоз их постепенно сокращался из-за развития местного сибирского хлебопашества. Помимо государственных поставок продуктов питания действовала торговля, организованная купцами-предпринимателями. Наличие гарантированного государева жалованья обеспечивало стабильное существование служилого люда. Помимо хлебопашества развивались торговля и промыслы, в которых и служилое население активно подключалось к развитию мелкотоварного производства. Нормализация военнополитической обстановки предоставляла широкий спектр возможностей для проявления личной инициативы в сфере торговой и хозяйственной деятельности.
С точки зрения мировоззрения людей XVII в., долгая обеспеченная жизнь считалась мерилом жизни достойной и богоугодной. Известное богословское сочинение «Похвала старости» и почитание такого понятия, как «старчество», а также изображения образов святых старцев в иконографии, служили духовной основой для стремления православных казаков достойно продолжать свой жизненный цикл.
Список литературы Жизненный цикл и жизнеобеспечение служилого населения Западной Сибири в XVII веке
- Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII -начале XVIII в. (опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). -Омск: , 2005. -340 с.
- Люцидарская А.А. Сибирские огородники в XVII в.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -Т. X, ч. 2. -С. 78-81.
- Люцидарская А.А. Старожилы Сибири: историко-этнографические очерки (XVII -начало XVIII в.). -Новосибирск: Наука, 1992. -197 с.
- Миллер Г.Ф. История Сибири. -М.: Вост. лит., 2000. -Т. 2. -796 с.