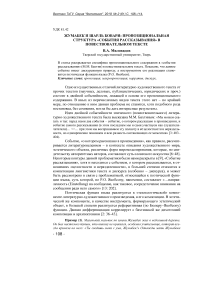Жумабек и Шарль Бовари: пропозициональная структура "события рассказывания" в повествовательном тексте
Автор: Миловидов Виктор Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается специфика пропозиционального содержания в «событии рассказывания» (М.М. Бахтин) в повествовательном тексте. Показано, что данное событие имеет дискурсивную природу, а инструментом его реализации становится поэтическая функция языка (Р.О. Якобсон).
Пропозиция, макропропозиция, нарратив, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/146281427
IDR: 146281427 | УДК: 81.42
Текст научной статьи Жумабек и Шарль Бовари: пропозициональная структура "события рассказывания" в повествовательном тексте
Одно из существенных отличий литературно-художественного текста от прочих текстов (научных, деловых, публицистических, юридических и проч.) состоит в двойной событийности, лежащей в основе его пропозиционального содержания. В иных из перечисленных видов текста этого нет – по крайней мере, по отношению к ним данная проблема не ставится, хотя подобного рода постановка, без сомнения, могла бы дать интересные результаты.
Идея двойной событийности эпического (повествовательного) литературно-художественного текста была высказана М.М. Бахтиным: «Мы можем сказать и так: перед нами два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели)… <>… при этом мы воспринимаем эту полноту в её целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов» [3: 403– 404).
Событие, «о котором рассказано в произведении», как правило, рассматривается литературоведением – в контексте описания художественного мира, эстетического объекта, различных форм миромоделирования, которые, по свидетельству авторитетных авторов, составляют суть словесного искусства [6: 48]. Некоторые контуры данной проблематики были нами раскрыты в [9]. «Событие рассказывания», хотя и находится с событием, о котором рассказывается, в отношениях «целостности и неразделенности», в большей степени относится к компетенции лингвистики текста и дискурса (особенно – дискурса), и может быть рассмотрено в связи с проблематикой, относящейся к поэтической функции языка, суть которой, по Р.О. Якобсону, напомним, составляет «…направ-ленность (Einstellung) на сообщение, как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого» [13: 202].
Поэтическая фунция языка реализуется в «технологической» компоненте литературно-художественного произведения, в его композиции. В эстетической же компоненте, в качестве инструмента, формирующего эстетический объект, в большей степени реализуется референтивная (по Бюлеру–Якобсону) функция. Данная дифференциация коррелирует с бахтинской же дихотомией композиции и архитектоники [2: 36–43].
Пример (1). Маленький мальчик по имени Жумабек жил в небольшой деревне. Он был настолько тупым, что никому не нравился, особенно учительнице, которая всегда кричала на него: «Ты сводишь меня с ума, Жумабек!» Однажды мать Жумабека - 108 - пришла в школу, чтобы проверить, как у него дела. Учительница честно сказала матери, что её сын - это просто катастрофа, получает очень плохие оценки, и она ещё не видела такого тупого ребёнка за всю свою жизнь. Мать была в ужасе, она забрала сына из школы, и они переехали в другую деревню.
Двадцать лет спустя учительница серьёзно заболела. Ей посоветовали операцию, которую во всей округе мог сделать лишь один хирург. Понимая, что у неё нет другого выхода, учительница согласилась. Все прошло успешно. Когда учительница открыла глаза после операции, то увидела своего спасителя, молодого симпатичного врача, который, глядя на неё, приветливо улыбался. Учительница захотела поблагодарить его, но не успела. Её лицо начало синеть; она подняла руку, пытаясь что-то сказать, но умерла, так и не произнеся ни слова.
Врач был в ужасе. Когда же он обернулся, то увидел Жумабека, который работал в этой больнице уборщиком. Оказывается, этот дятел отключил кислородный аппарат, чтобы врубить свой пылесос.
А вы что, подумали, что Жумабек стал хирургом?
Комментарий (1). Анекдот - не в его классической форме как нечто «не изданное» (повествование об известной личности, которое не обязательно должно быть смешным), а в форме современной, как юмористический бытовой рассказ с новеллистической структурой, есть жанр современного фольклора, отличающийся особой четкостью и выверенностью нарративной схемы. Как таковой, он вполне может стать материалом рассмотрения «технологической» стороны художественного текстопостроения - при естественной для анекдота редуцированности эстетического компонента. Анекдот не является формой миро-моделирования, не содержит в себе полноценного эстетического объекта, не рассматривает изображаемые события и положения в свете эстетического идеала; у него иные задачи - он повествует, и делает это мастерски.
Приведённый выше современный анекдотический текст как нарратив не уступает лучшим нарративам литературно-художественным (см. ниже - Пример 2), и вполне может стать полем изучения пропозициональной структуры «события рассказывания» повествовательного текста.
Аналитический инструментарий . Под пропозицией традиционно понимают семантический инвариант, превербальную и вневербальную содержательность, лежащую в основании предложения-высказывания и из него выводимую. Е.В. Падучева называет пропозицию «потенциальным концептом предложения, т.е. таким смыслом, который выражается в языке предикатной группой (предикатом, со всеми словами, служащими для заполнения его семантических валентностей)» [11: 36–37]. Пропозиция реализуется в тексте через предикацию, которая, в свою очередь, оформляется вербально [5: 8].
Текст как некая совокупность предложений, за которыми стоят соотносимые с ними пропозиции, представляет собой сложный знак, содержательность которого есть комбинация пропозиций, или - макропропозиция. Поскольку дискурс - формально - это последовательность предложений-высказываний, то комбинация стоящих за ними пропозиций также может быть описана как макропропозиция. Т. ван Дейк и В. Кинч так раскрывают процесс «восхождения» от набора элементарных пропозиций к макропропозициям: «Основной принцип как лингвистической, так и логической семантики гласит, что интерпретация определенных единиц должна осуществляться в терминах интерпретации их составляющих ча- стей. Поэтому определение макроструктуры посредством макроправил тоже должно основываться на значениях предложений дискурса, то есть на выраженных ими пропозициях. Поскольку макроструктуры (дискурса - В.М.) являются по определению семантическими единицами, они также должны состоять из пропозиций, а именно - из макропропозиций. Макропропозиция, таким образом, является пропозицией, выведенной из ряда пропозиций, выраженных предложениями дискурса» [4: 42].
И ранее:
«Таким образом, конкретные речевые акты могут быть или относительно “самостоятельными” единицами коммуникации (ср. приветствия), или рассматриваться как нормальные условия, компоненты или элементы последовательности, образующие глобальный речевой акт. Макроправила в терминах макроречевых актов объясняют, как именно последовательность речевых актов связана со своей глобальной репрезентацией» [там же: 36].
Пропозициональная структура текста и дискурса иерархична. Комбинация относящихся к двум элементарным высказываниям пропозиций станет по отношению к ним макропропозицией, которая, в свою очередь, будет строевым материалом для макропропозиций следующего уровня - и так далее, до уровня глобальной репрезентации, соотносимой, допустим, с целостным текстом, или фрагментом дискурса. Причем, поскольку современная теория литературно-художественного текста в качестве единого текста может представить и крупные сверх-текстуальные образования (все тексты одного автора, все тексты национальной литературы, тексты мировой литературы), то им также будет соответствовать выведенная на основе макроправил глобальная репрезентация. То же относится и к литературно-художественному дискурсу, где глобальная репрезентация будет относиться к макро-событию рассказывания, то есть, литературному процессу.
Пропозициональная структура, включающая в себя набор актантов, а также предикат, реализует ряд стандартных семантических схем - сообщая о действии, совершаемом первым актантом (в том, числе, и по отношению ко второму), о состоянии, в котором он находится, а также о его признаках и признаках признаков, равно как и о признаках (параметрах) предиката. В любой из этих стандартных схем стоящий в рематической позиции предикат несет новую информацию об актанте (актантах), иными словами - сообщает ему (им) некие новые семантические параметры. Новые семантические параметры актанта - результат его перехода через границу семантических полей, причем, предикат и является инструментом этого перехода. Подобная логика, в целом, применима и к семантике макропропозиций, выведенных из элементарных пропозиций на основе макроправил.
Семантическими характеристиками наделены все без исключения ярусы языка, а не только ярус (уровень) лексической семантики - фонологический, фразеологический, синтаксический. «Семантическим ореолом» (термин М.Л. Гаспарова) наделён стилевой уровень (номенклатура функциональных стилей, стилевых кодов, активизируемых в конкретных эпизодах коммуникации), уровень жанровый и - что важно для настоящей работы - уровень сюжетный, который включает в себя базовые сюжетно-композиционные схемы как набор кодов, через который и посредством которого мы семантизируем создаваемые нами или нами же воспринимаемые сюжеты.
Таких базовых сюжетных схем насчитывается достаточно ограниченное, исчисляемое количество [10]. Так, К. Букер всё богатство нарративных вариантов, реализованных в повествовательной литературе, сводит к семи инвариантным сюжетно-композиционным схемам, семи основным сюжетам, первое место среди которых занимает сюжет «из грязи в князи» (“rags to riches” stories). Его наиболее известные реализации – сюжет «гадкого утенка» и Золушки, «в рамках которого наш основной интерес связан с историей того, как изначально убогий и ничтожный герой или героиня восходит к небывалому успеху и великолепию» [14: 5]. Сюда же относятся сюжеты «возрождения», повествующие о чудесном спасении героя или героини он власти темных сил [там же: 193–213], а также сюжет о преодолении власти чудовища [там же: 21–29].
Сюжет, равно как и мотив, являющийся сюжетогенным элементом текста, есть предикативная структура, в основе которой лежит соотносимая с ней пропозиция. Взаимодействие сюжетов на основе макроправил формирует макропропозицию.
Все три упомянутых выше сюжета, входящие в стандартный набор сюжетных кодов, на основе которых осуществляется повествование, важны для нашей работы. И это действительно стандартный набор, на фоне которого в конфликтном («остраняющем») с ним со-противопоставлении и формируются новые сюжеты – как сюжеты «отказа» от традиции. «Событие рассказывания» и есть событие отказа от традиции, преодоления традиции, зафиксированной в стандартных сюжетных схемах – не случайно Р. Барт называет литературу искусством «умышленной какографии» [1: 18–19], то есть, искусством умышленного нарушения кодов и конвенций, на основе которых строились тексты, хронологически предшествующие тексту «становящемуся». Правда, это определение характеризует лишь литературу «новейшего времени», вписывающуюся в то, что Ю.М. Лотман, называл «эстетикой противопоставления» – в противовес древней «эстетике тождества» [6: 226–227] (противопоставление и отождествление, о которых писал исследователь, и составляет суть «макроправил», формирующих макропропозиции повествовательного дискурса).
Забегая вперед, скажем, что история Жумабека, равно как и история Шарля Бовари, вписывается в логику «эстетики противопоставления». В случае с Шарлем Бовари это предопределено эстетикой Флобера, сражавшегося с запоздалыми изводами европейского романтизма; в современном анекдоте сюжет Жумабека – один из двух возможных способов создания комического эффекта – все мы помним «Это был другой слон…» из коллекции Юрия Никулина.
Переход актанта через границу семантического поля есть событие (ср.: [7: 285]). Событие рассказывания, о котором говорит М.М. Бахтин, как и любое событие вообще, также является результатом того, что выше названо переходом границ семантического поля, но совершает этот переход не актант наррации (персонаж, наррататор), а актант коммуникации, нарратор (типология актантов литературно-художественного текста описана в нашей статье [8: 15]). Актант коммуникации выходит за границы семантического поля, сформированного стандартным сюжетом, и это событие, которое связывает стоящую за ним пропозицию с формирующейся пропозицией «отказа», как раз и есть инструмент формирования макропропозиции, лежащей в основе события рассказывания.
Содержанием этой макропропозиции становится сам факт отказа от традиционного сюжета (эстетика противопоставления), его преодоления, а формообразующим началом – поэтическая функция языка в ее направленности на сообщение, на инверсируемый стандартный сюжет и саму логику его инверсирования. При этом поэтическая функция, управляющая конфликтом между стандартным сюжетом и сюжетом формирующимся, то есть, дискурсивным развертыванием нового текста, инверсирующего стандартный сюжет, играет заодно и роль функции метаязыковой, функции «управления» дискурсом.
Интерпретация (1) А вы серьёзно подумали, что Жумабек стал хирургом?
Нарратор как актант коммуникации в повествовании о Жумабеке выходит за границу семантического поля, сформированного, применительно к Жу-мабеку, «сюжетом о гадком утенке» – со всеми его вариантами и смысловыми импликатурами. Жумабек (гадкий утенок) в полном соответствии с логикой доминирующих в рамках этого сюжета стандартных нарративных формул и их семантикой обязан был бы превратиться в «прекрасного лебедя» – талантливого и благородного молодого хирурга, спасающего престарелых учительниц, своих бывших гонительниц. Но не превращается.
Не будем подробно останавливаться на причинах, по которым актант коммуникации отказывается от реализации сюжета о гадком утёнке применительно к актанту наррации. Сказывается ли здесь власть этнических стереотипов, или же реализуются иные мотивы – это не столь важно, как сам факт конфликтного противостояния сюжетной формулы из номенклатуры «вечных сюжетов», с одной стороны, и формирующегося нарратива, с другой. «Событие рассказывания» как раз и состоит в переходе актантом коммуникации границ сюжетной формулы «гадкого утенка» – в этой обращенности на данную сюжетную формулу (и, вообще, на стандартные формулы художественного текстопо-строения), в конфликтном с ней противостоянии и кроются причины, применительно к сюжету о Жумабеке, комического эффекта, составлющего цель анекдота. Мы смеёмся не столько над Жумабеком, который неловко распорядился энергоресурсами больницы (текст), сколько над самими собой в ситуации обманутого ожидания – стандартный, а потому ожидаемый нами в процессе дискурсивного развития анекдота сюжет подвергается отрицанию, разворачивается как своя противоположность (дискурс).
Событие как пересечение актантом границы семантических полей эти поля не только противопоставляет, но и соотносит. И если «событие рассказывания» в анекдоте о Жумабеке, который не стал хирургом, ретроспективно дезавуирует романтический в своей основе сюжет о гадком утенке, то перспективная реализация сходного «события рассказывания» (пусть и на основе иного, но также романтического по сути своей сюжета) может быть раскрыта на примере текста, сделанного, на наш взгляд, не менее мастерски, чем история Жумабека. Это – «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера.
Пример (2) «Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «боже!» – вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!» [12: 20] (перевод Н. Любимова; оригинальный текст: Quel étonnement!).
Комментарий (2) Предваряет этот эпизод, как известно всем, читавшим Флобера, история женитьбы Шарля Бовари на состоятельной, но некрасивой и сухой как жердь вдове Элоизе Дюбук, которая, к моменту знакомства героя с Эммой Руо (будущей Эммой Бовари), начинает тяготить молодого героя. После ссоры с родителями Шарля Элоиза неожиданно умирает - так исчезает препятствие, стоящее на пути Шарля к сердцу и руке Эммы. Таков контекст примера (2), в котором, единственный раз во всем тексте, писатель отказывается от своей принципиальной позиции вненаходимости и входит в повествование, произнося это «Как странно!»
Интерпретация (2) Что здесь странного?
Во фрагменте, предшествующем процитированному тексту, реализуется сюжет из типологии нарративных сюжетов К. Букера - романтический сюжет освобождения юного героя от власти старой ведьмы, чудесным образом открывающего ему путь к браку с юной красавицей. Странно то, что подобные ро-мантически-сказочные сюжеты могут реализовываться там, где царит повседневность («Провинциальные нравы» - так звучит подзаголовок романа)! Последующий же нарратив «Госпожи Бовари», инверсирующий букеровский сюжет - это сюжет Жумабека, который так и не стал хирургом. Правда, относится он не столько к Шарлю, сколько к Эмме Бовари. И в конечном итоге, разве Эмма не предвосхитила в своей трагической истории судьбу безымянной деревенской учительницы, ставшей жертвой уборщика Жумабека?
Выводы. Семантика повествовательного литературно-художественного текста формируется на основе двух системно связанных друг с другом и, вместе с тем, отличных по своей природе пропозициональных структур. С одной стороны, это макропропозиция эстетического объекта, за формирование которого, главным образом, отвечает референтивная функция языка, включающая в себя набор неких макроправил («горизонтальных» правил, по свидетельству Дж. Сёрля [15: 326-331]), которые применяются к элементарным пропозициям. Здесь мы имеем дело с реализованным событием, «о котором рассказывается». В «событии рассказывания», с другой стороны, инструментом формирования макропропозиции становится поэтическая функция языка, отвечающая за обращенность сообщения на самое себя, за конструирование сообщения на основе отказа - в логике «противопоставления» - от предшествующих конвенций и кодов (сюжетных, образных, стилевых и прочее). При этом маропропозицией, сформированной на основе данного события, станет логика литературного процесса - как в самом широком смысле (конфликтное со-противопоставление художественных систем, изучаемое историей литературы и исторической поэтикой), так и в узком - как со-противопоставление конкретных категорий поэтики, реализованных в конкретных же текстовых элементах на всех уровнях композиции повествовательного произведения. Самое интересное - это определить логику взаимоотношений двух описанных событий - дискурсивную динамику «события рассказывания» и текстовую статику «события, о котором рассказывается». В этой соотнесённости и кроется, вероятно, главная тайна нарратива.
Список литературы Жумабек и Шарль Бовари: пропозициональная структура "события рассказывания" в повествовательном тексте
- Барт Р. S/Z. М.: Ad Marginem, 1994. 304 с.
- Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986. 544 с.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: «Художественная литература», 1975. 504 с.
- Дейк, ван, Т., Кинч В. Макростратегии//Т. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 308 с.
- Кацнельсон С. Д. Речемыслительные процессы//Вопросы языкознания. 1984. №4. С. 3-12.
- Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике//Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 11-264.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
- Миловидов В.А. Актант//Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной Intrada, 2008, С. 15.
- Миловидов В.А. Семиотика литературно-художественного дискурса. М.: Буки-Веди, 2016. 172 с.
- Назиров Р.Г. Международные литературные сюжеты и типы. Уфа: РИЦ БГУ, 2012. 204 с.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесённость с действительностью. М.: Наука, 1985. 272 с.
- Флобер Г. Госпожа Бовари. Саламбо. Москва: «Амальтея», 1993. 480 с.
- Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против» М.: Издательство «Прогресс», 1975. С.193-230.
- Booker Ch. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. London -NewYork: Continuum, 2005. 736 p.
- Searle J. The Logical Status of Fictional Discourse//New Literary History. Vol. 6, No. 2, Winter, 1975. On Narrative and Narratives. Published by: The John Hopkins University Press. PP. 319-332.