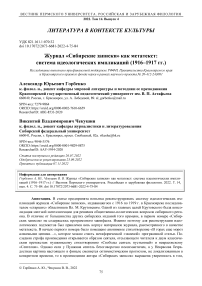Журнал "Сибирские записки" как метатекст: система идеологических импликаций (1916-1917 гг.)
Автор: Горбенко Александр Юрьевич, Чекушин Викентий Владимирович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка реконструировать систему идеологических импликаций журнала «Сибирские записки», издававшегося с 1916 по 1919 г. в Красноярске последователем «старших» областников Вл. М. Крутовским. Одной из главных целей Крутовского была консолидация местной интеллигенции для решения общественно-политических вопросов сибирского региона. В отличие от большинства других сибирских изданий того времени, в первом номере «Сибирских записок» не содержалось программного манифеста. Именно поэтому для реконструкции идеологических подтекстов был привлечен весь корпус материалов журнала, рассмотренного в качестве метатекста. В начало первого номера было помещено анонимное стихотворение «В горах еще мороз алмазными цепями...», которое можно счесть метафорической «заменой» программной статьи. Последняя строфа произведения открывается образом сеятеля, отсылающего читателя к двум классическим претекстам: пушкинскому стихотворению «Свободы сеятель пустынный» и некрасовскому «Сеятелям». Однако если у Пушкина сеятель безоговорочно пессимистичен, а у Некрасова безрадостная картина настоящего в финале сменяется оптимистическим прогнозом, не локализованным в конкретном времени, то в произведении автора «Сибирских записок» выражена уверенность в том, что «посевы» просвещения «взойдут» уже «грядущею весной». Ожидание скорых социокультурных перемен обусловливает эксплуатацию и «весенней» метафорики - этот корпус образов регулярно встречается в фикциональных текстах. В неизбежность реформ, которые в ближайшем будущем приведут к улучшению жизни региона, верили и авторы публицистических текстов, однако с начала 1918 г. взгляды авторов журнала претерпевают существенные изменения.
Журнал сибирские записки, вл. м. крутовский, сибирское областничество, метатекст, идеологические импликации
Короткий адрес: https://sciup.org/147239664
IDR: 147239664 | УДК: 821.161.1:070:32 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-4-75-84
Текст научной статьи Журнал "Сибирские записки" как метатекст: система идеологических импликаций (1916-1917 гг.)
«Старшее» поколение сибирского областничества (Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков и др.) поставило целый ряд значимых и болезненных вопросов, касающихся широкого спектра проблем родного для него региона. Как хорошо известно, один из ключевых вопросов касался необходимости формирования самостоятельной сибирской интеллигенции, которая была бы способна решать насущные проблемы социально-политического характера – такие, например, как штрафная колонизация в Сибири, организация земства и т. д. (хорошо известные пять областнических «вопросов»). С учетом литера-туроцентризма отечественной культуры (главная фаза которого пришлась на XIX столетие), логично, что одним из ключевых инструментов в этом процессе лидеры «старшей» ветви сибирского патриотизма видели словесность (в широком смысле, а не только художественную литературу, которую они называли «беллетристи-кой»1), в первую очередь газету, а позднее – журнал.
Обсуждение вопроса о том, насколько решение этой амбициозной задачи оказалось под силу «старшим» областникам, находится за пределами нашей статьи, однако о неудовлетворенности самих «сибирских патриотов» ситуацией можно судить совершенно определенно. Приведем один из множества имеющихся примеров. Уже в XX в., в октябре 1909 г., когда многих соратников Потанина уже попросту не было в живых, он писал сибирской поэтессе и своей будущей второй жене М. Г. Васильевой о том, что «<…> об открытии кружка [речь идет о литературноартистическом кружке. – А. Г., В. Ч.] убивался, хлопотал именно затем, чтобы создать почву, на которой сибирская молодежь могла встречаться с профессорами и слушать их не только тогда, когда они говорят с эстрады» [Потанин, Васильева 2004: 198]. Иными словами, Потанин, прибегая к излюбленному сибирскими интеллектуалами арсеналу биолого-органицистской метафори-ки2, с горечью констатировал отсутствие демократически устроенных практик коммуникации «сибирской молодежи» и «профессоров». Напомним, что в это время Потанин жил в Томске, который сам характеризовал как «умственн[ую] столиц[у] Сибири» (цит. по: [Томск 1999: 137]). Приведен- ная цитата свидетельствует о существовавшем дефиците консолидированных общими сибире-фильческими идеями интеллектуальных сил даже в Томске, не говоря о других, менее развитых сибирских городах, тем более о такого рода консолидации сил, которая охватывала бы весь чрезвычайно обширный регион.
Яркой попыткой восполнить этот дефицит стало создание журнала «Сибирскiя записки»3 (далее – СЗ ), который был организован в Красноярске в 1916 г. врачом, общественным деятелем, публицистом, младшим последователем Яд-ринцева и Потанина (а также довольно близким другом последнего) Вл. М. Крутовским4. СЗ , редакция которых находилась в доме Крутовского, просуществовали до конца 1919 г., после чего были закрыты большевистской властью. Всего вышло 20 номеров: в 1916 и 1918 гг. – по четыре номера, в 1917 и 1919 гг. – по шесть.
В письме к Потанину от 27 февраля 1916 г. Крутовский характеризовал свой вклад в работу журнала так: «Вся контора, редакция и состав <…> журнала – это я один. Я и секретарь, я и сторож, и разносчик, и экспедитор, и писатель, и редактор» [Броднева 2014: 128]5. Иными словами, издатель определял редакционную политику журнала и в то же время являлся его активным автором и неутомимым администратором.
Безусловно, от журнала, издававшегося «младшим» областником Крутовским, логично было бы ожидать того, что это будет журнал «с направлением». Тем более показательно, что в первом номере, увидевшем свет в январе 1916 г., отсутствовала программная («передовая») статья либо обращение «От редактора» или «От издателя», которые могли бы содержать изложение взглядов и планов его создателей.
Такого рода дефицит был нетипичен для сибирских журналов, издававшихся в 1910-е гг.6 Ограничимся двумя примерами, взятыми из массы имеющихся7. Редакция другого красноярского журнала «Сибирская деревня», имевшего подзаголовок «Сельско-Хозяйственный, Кооперативный и Экономическiй», в самом начале первого номера заявляла о своих культуртрегерских целях (используя привычную для сибирской словесности метафорику) – «броса[ть] въ темную глушь сибирской деревни лучи столь необходи- маго ей свѣта», «получая отъ нея от матерiалъ, который такъ дорогъ ему для правильнаго освѣщения ея нуждъ» [Редакция 1913: 2].
Дебютный номер томского журнала «Сибир-скiй Студентъ», который имел подзаголовок «литературный и общественно-политический журнал» и начал печататься в мае 1914 г., открывался редакционной статьей. В этой статье ключевая задача сибирской университетской молодежи, которая, по мнению редакции, должна была взять на себя работу по улучшению жизни региона, обозначалась так: «<…> необходима пропаганда организацiи разрозненныхъ студенческихъ силъ на почвѣ подготовленiя къ будущей общественной дѣятельности и посильнаго изученiя родины, выявленiя ей [sic! – А. Г., В. Ч .] нуждъ, потребностей широкихъ народныхъ массъ и изысканiя путей и способовъ “устроенiя жизни родного края» [Редакция 1914: 5]. После этого шло подробное перечисление стоящих перед журналом задач.
Отсутствие схожей с приведенными примерами изложения собственной программы в СЗ тем более показательно (и контрастно по отношению к обилию разного рода манифестов, созданных «старшими» областниками), если учесть, что Крутовский делал упор на трансляцию со страниц своего журнала именно областнических идей. Так, 11 апреля 1916 г. он с удовлетворением писал активно сотрудничавшему с СЗ Потанину о другом авторе журнала – Н. Н. Козьмине: «Вот теперь по моей просьбе он и приготовил мне статьи об областничестве и, так сказать, даст солидное обоснование этому направлению, которое я ставлю в 1-й угол моего издания» [Броднева 2014: 131]. В самом деле, один из разделов СЗ получил название «Областной отдел», а сам Крутовский регулярно помещал в журнале ряд важных и в структурном, и в идейном отношении «Областных обозрений», выходивших под криптонимом В. К. К этим работам создателя журнала примыкали труды по истории областничества, принадлежавшие перу его родного брата Вс. М. Крутовского, а также уже упомянутого Н. Н. Козьмина. Кроме того, в СЗ был напечатан целый корпус сочинений «старших областников», состоявший не только из статей довольно активно сотрудничавшего с журналом Г. Н. Потанина. В СЗ републиковались также некоторые программные статьи Н. М. Яд-ринцева, а с самого первого номера издания по третий номер за 1917 г. включительно (а также в некоторых номерах и в дальнейшем) в нем по «сериальному» принципу печатались письма Яд-ринцева к Потанину, ставшие структурным эквивалентом романа (за все четыре года суще- ствования СЗ в них не было напечатано ни одного произведения этого жанра, что, безусловно, было нетипично для отечественного «толстого» журнала). Наконец, в «Хронике областного движения в Сибири» в начале 1919 г. создатель журнала аттестовал его как «орган и еженедельник» Красноярского союза областников-автономистов. По заявлению Крутовского, журнал «имѣл весьма значительный успѣх среди сельскаго населенiя Енисейск. губ.» [В. К. 1919. № 1: 75].
Полемизируя с другими исследователями сибирского областничества, описывающими его как влиятельное общественно-политического движение, В. И. Шишкин, настаивает на том, что «<…> в концептуальном плане областничество так и не сложилось в систему взглядов, а в организационном отношении до осени 1917 года оно никогда не достигало уровня общественнополитического движения хотя бы регионального масштаба» [Шишкин 2016: 48]. По мнению Шишкина, «большую часть времени сибирское областничество существовало лишь в вербальном виде. Но даже в этом своем качестве оно представляло собой слабо агрегированный набор эмпирических представлений, взглядов и суждений, которые даже лидеры областничества незамысловато именовали всего лишь “сибирскими вопросами”» [там же: 48–49]. Не останавливаясь на содержащихся в этой оценке упрощениях, отметим, что, на наш взгляд, необходимо дифференцировать 1) областничество (прежде всего его «старшую» генерацию) как общественно-политический (а также литературно-критический, эстетический и т. д.) дискурс и 2) областничество как институционализированное «общественнополитического движение». При таком разграничении стоит признать, что мы действительно едва ли можем говорить об областничестве (понятом в качестве совокупности институционализированных практик) как о сложившемся и успешном, влиятельном феномене, тогда как областнический дискурс вполне сформировался в корпусе трудов «старших» сибирских патриотов, прежде всего Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева8.
По словам Б. А. Чмыхало, «“поздние” областники, увлеченные политическими аспектами движения, не обнаруживали большой самостоятельности в разработке проблем “сибирской литературы”. Они лишь комментировали и умеренно модернизировали то, что было заявлено по этому поводу Ядринцевым и Потаниным» [Чмы-хало 1992: 165]9.
Наконец, отсутствие программных выступлений неверно было бы объяснять цензурными препонами. Любопытно, что в заключительном номере журнала (который, впрочем, не планировался в качестве такового10) помещено обращение «От редакцiи», в котором говорится об отсутствии предварительной цензуры журнала до последнего времени: «Четыре года “Сиб. Зап.” Пользовались свободой печати: при Николаѣ II, при Врѣм. Прав., при Совѣтской власти и ни разу не подвергались никакому замѣчанiю или карѣ. Почему теперь журнал отдан предварительной военной цензурѣ – нам неизвѣстно и ничего не об’явлено» [Редакция 1919: 115]11.
Итак, в силу разных причин идеологическая программа важнейшего сибирского журнала нигде не была сформулирована эксплицитно, но в то же время двадцать вышедших номеров СЗ содержали в себе существенный массив идеологических подтекстов (сложившихся во вполне стройную систему). Не претендуя на исчерпывающий анализ, мы постараемся реконструировать его важнейшие элементы, рассматривая журнал в качестве метатекста12. Материалом для такой реконструкции послужит весь корпус номеров СЗ , прочитанных «насквозь».
Дополнительное основание для такого подхода дает тот факт, что редактор журнала объединял под его обложкой авторов, которых без особой натяжки можно было бы назвать единомышленниками. Как справедливо отмечает Б. А. Чмы-хало, печатавшиеся в СЗ литераторы «привлекались к сотрудничеству далеко не случайно и даже не в силу безусловного организаторского таланта Крутовского. Содержание литературного отдела “Сибирских записок” – это следствие определенной политики “поздних” областников в области “художества”» [Чмыхало 1992: 160].
В этом смысле исключительно важен тот порядок, в котором располагались слова, составлявшие подзаголовок издания: «”Сибирскiя записки”: журнал литературный, научный и поли-тическiй». Этот порядок слов имплицитно, но абсолютно недвусмысленно свидетельствовал о том, что в журнале доминировала именно литературная составляющая.
Уже в первом номере СЗ содержался художественный текст, который можно счесть метафорической «заменой» программной статьи. Речь идет о стихотворении, помещенном в самое начало номера и напечатанном без подписи. Остановимся подробнее на его последней строфе, которую открывает образ сеятеля, вне сомнения, навеянный А. С. Пушкиным: «Выходитъ сѣятель. Увѣренной рукою // Бросаетъ зеренъ дождь на грудь земли родной. // И вѣрит сѣя-тель: – зеленою волною // Взойдетъ посев его грядущею весной...» [Б. п. 1916: 1]. Такое прочтение стихотворения поддерживается не только фигурой сеятеля, но и наличием других элементов пушкинской топики – «мороза» и «солнца» – уже в его первой строфе: «Въ горахъ еще мо-розъ алмазными цѣпями // Пытается сберечь свою былую власть, // Но солнце ласку шлет горячими лучами, // И шествуетъ весна могучая, какъ страсть» [там же]. И в то же время анонимное сибирское стихотворение является отчетливо полемическим по отношению к своему претексту.
Если пушкинский сеятель констатирует трагическую обреченность своих попыток дарования свободы, единственным результатом которых становится лишь «потеря времени», то герой сибирского стихотворения «[б]росаетъ зеренъ дождь на грудь земли родной» «увѣренной рукою» и убежден, что «зеленою волною // Взой-детъ посев его грядущею весной...».
Если учесть еще один несомненный источник анализируемого текста – стихотворение Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876), – картина станет еще более определенной. В таком случае динамическая линия рецепции и трансформации евангельского по своему генезису образа сеятеля выглядит следующим образом. У Пушкина сеятель, являющийся лирическим героем, безоговорочно пессимистичен. У Некрасова, стихотворение которого императивно обращено к сеятелям, безрадостная картина настоящего в финале сменяется оптимистическим прогнозом («Сейте! Спасибо вам скажет сердечное // Русский народ…» [Некрасов. Т. 3: 179]). В произведении автора СЗ , где сеятель является персонажем, уверенность укоренена в ближайшем будущем: вновь вспомним его убежденность в том, что «зеленою волной / Взойдет посев его грядущею весною» (в отличие от некрасовского текста, здесь работа сеятеля принесет плоды не когда-либо, а в ближайшем будущем – «грядущею весною»).
Наконец, у Пушкина метафора бесплодной почвы имеет универсальный характер (т. е. вообще бесплодной почвы, лишенной какой бы то ни было национально-географической привязки). У Некрасова, проблематизирующего ее «бесплодность», уже задан национальный масштаб («Спасибо вам скажет сердечное Русский народ…»). Автор СЗ , как нам представляется, продолжает эту тенденцию уменьшения масштаба. Здесь почвой для деятельности сеятеля оказывается, по всей вероятности, Сибирь: он «[б]росаетъ зеренъ дождь на грудь земли родной ».
Теперь обратимся к стихотворению К. К. Худякова «Утро первого сева», опубликованному в первом номере журнала за 1918 г. В его последней строфе деятельность деда-сеятеля описана так: «С дѣтской вѣрой, наивно-упорной, //
С вѣрой в лихву сторицею мзды // За простые святые труды, // Из руки заскорузлой и черной // В черноземную глубь борозды // Заронились от-борныя зерна…» [Худяков 1918: 22]. Сразу оговоримся, что здесь тема сеятеля как просветителя если и есть, то в гораздо менее явном виде, нежели в предыдущих примерах. Вместе с тем публикация стихотворения в СЗ , хронологический контекст и безусловная его включенность в очерченную парадигму стихов о «посеве как просвещении» в русской поэзии XIX–XX вв. дают все основания рассматривать это произведение в нашей перспективе, пусть и в несколько ином ключе.
У Худякова пахарь, в отличие от некрасовских сеятелей, по-пушкински сеет «отборныя зерна» (ср. «живительное семя») и при этом «наивно–упорно» верит в «непушкинский» результат своих трудов. В цитировавшейся выше третьей строфе Худяков сохраняет синтаксис пушкинского претекста (инверсия и два примыкающих к существительному «рука» эпитета), но несколько переиначивает его семантику, заменяя романтический по своему генезису конфликт обладающего «рукою чистой и безвинной» сеятеля и толпы (в данном случае – «стада») более ранним, скорее руссоистским образом «руки заскорузлой и черной» благородного труженика: «Из руки заскорузлой и черной» вместо «Рукою чистой и безвинной» (как это было у Пушкина)13.
К этой же группе произведений примыкает напечатанное во втором номере журнала за 1919 г. металитературное стихотворение Н. Щеглова «Сибирская поэзiя» [Щеглов 1919: 22], в котором тема урожая сужается, полностью совпадая с результатами поэтического труда. При этом «мятежный расцвет» сибирской поэзии должен совпасть по времени с приходом весны, которая в этом стихотворении, судя по всему, означает время не только культурного преображения, но и политических перемен. Позволим себе привести это стихотворение целиком как по причине его малой известности, так и в силу его концептуальной важности:
Она еще робка, она еще бѣдна,
Она еще–бредет избитыми тропами,
Но–как в сырой землѣ тучнѣют сѣмена
И всходят по веснѣ прекрасными цветами,–
Так и она в свой час,–когда придет весна,– Мятежно расцвѣтет пылающим жар цвѣтом...
Пусть мрак еще глубок, пусть ночь еще темна, Но уж близка заря и мрак–перед разсвѣтом!
Топика пушкинского стихотворения возникала не только в «литературной» (а именно стихотворной) части СЗ. Так, в «Областном обозрении», помещенном в сдвоенном (4–5) номере журнала за 1917 г., Вл. М. Крутовский с горечью задается вопросом: «Были объявлены драгоцѣн-ные дары свободы [курсив автора. – А. Г., В. Ч.]: свобода личности, свобода слова, свобода печати, неприкосновенность жилища и др. И что же? Во что вылились эти всѣ новоявленныя свободы?» [В. К. 1917: 111]. Есть все основания считать выделение курсивом слова «свободы» не только средством, с помощью которого Крутов-ский акцентирует важную для этой части обозрения категорию, но и сигналом интертекстуальной связи с важнейшим для издаваемого им журнала пушкинским претекстом14.
Образ сеятеля, безусловно, стал одним из ключевых автоописательных тропов СЗ . Именно он, уже и сам по себе щедро наделенный семантикой бескорыстного «просвещения», подвижничества на благо родного края, в отсутствие эксплицированной программы журнала, получил дополнительную смысловую и символическую нагрузку. Этот троп оказался в числе стержневых, инвариантных единиц, «несущих конструкций» журнала как метатекстуальной структуры. Он, несомненно, коррелировал с интенсивно используемой авторами журнала для манифестации идеологических и политических смыслов природной и/или органицистской метафорикой. Остановимся на нескольких показательных и выразительных примерах. В стихотворении В. Кручинина «Такмакъ» состояние скалы метонимически передает социально-политическую ситуацию в стране: «Онъ [Такмакъ – А. Г., В. Ч. ] въ раздумьи стоитъ надъ желѣзнымъ мостомъ // И кому то грозитъ своимъ грознымъ перстомъ. // А кругомъ на него жадно смотритъ въ упоръ // Безконечная цѣпь окружающихъ горъ, // Словно ждетъ, что: вотъ - вотъ отъ волшебнаго сна // Онъ проснется, а съ нимъ и родная страна; // И тогда то... тогда только сбудутся сны // О без-бѣдномъ житьѣ, о расцвѣтѣ страны!» [Кручинин 1917: 98]. Более того, у Кручинина именно пробуждение сибирского Такмака должно было стать импульсом к началу «расцвета» всей страны, что автоматически выводит Сибирь из положения периферийного региона империи, делая ее источником и центром чаемых социальнополитических перемен.
Тема сна станет центральной в стихотворении Ф. Филимонова, носящем характерное название «Весна» и опубликованном в третьем номере журнала за 1917 г., который вышел вскоре после Февральской революции:
Вы мнѣ говорили: «Такъ дни некрасны,
Я жду за потерей–потерю;
Давно я не вѣрю въ волшебные сны,
И въ грезы – и въ сказки не верю».
«Не въ сказки и сны этотъ мiр погружен.
Мнѣ слушать о грезахъ, забавно»…
А развѣ не грезы, не сказка, не сонъ–
Все то, что случилось недавно?!
[Филимонов 1917: 13]15.
Если наше прочтение подтекстов этого стихотворения верно, то несомненно, что на конфигурацию образа весны здесь повлияли именно события Февральской революции, происходившие в конце зимы – начале весны. Лирический субъект стихотворения называет «сном» происходящие в стране парадигмальные социокультурные изменения, описание которых закамуфлировано под диалог с неназванным адресатом. При этом, в отличие от кручининского «Такмака», где сон трактуется как оцепенение, которое необходимо сбросить, здесь описаны «сны наяву», фантазии, которые «недавно» начали воплощаться в реальной жизни.
Ряд подобного рода примеров без труда может быть существенно расширен, однако приведенных, как кажется, достаточно, чтобы заключить, что центральными для манифестации идеологической программы журнала СЗ стали два ряда элементов. Первый – образ сеятеля, глубоко укорененный в контексте русской литературы16, и связанный с ним мотивный комплекс. Ключевыми отличиями трактовки фигуры сеятеля авторами журнала от «столичных» претекстов стали сужение его поля деятельности, ограниченного Сибирью, а также преисполненность надеждой на скорые результаты культуртрегерской деятельности. Второй – весна, ставшая одной из важнейших метафор, описывающих неизбежность грядущих социокультурных перемен в Сибири, которые положат начало переменам в общеимперском масштабе. Природная образность будет эксплуатироваться и в последние два года существования СЗ (1918–1919), однако ее идеологическая нагрузка заметно изменится после Октябрьской революции и «[к]рушенi[я] Сибирской Областной Думы» [В. К. 1918a: 58]. Изменениям идеологических подтекстов журнала, произошедшим в 1918–1919 гг., будет посвящена специальная статья.
Примечания
-
1 Подробнее об этом см.: [Чмыхало 1992].
-
2 К. В. Анисимов и А. И. Разувалова отмечали «значимост[ь] органицистских (климатических и этнологических) построений в областническом наследии <…>» [Анисимов, Разувалова 2014: 79], однако специально этих «построений» не анализировали, поскольку это не входило в их задачу. Подробному исследованию этого пласта
метафорики сибирских областников один из авторов настоящей статьи планирует посвятить специальную работу.
-
3 При цитировании СЗ (и других журналов) мы придерживаемся текстологического решения, которое, вероятно, требует объяснения. Мы сохраняем и орфографию, и пунктуацию источников, следуя принципам текстологической работы, предложенным и самым тщательным образом обоснованным в новаторских работах выдающегося филолога М. И. Шапира, поддержанным рядом его коллег, прежде всего пушкинистов: И. А. Пильщиковым (в соавторстве с которым написаны некоторые труды Шапира), Н. В. Перцовым [Перцов 2008]; [Перцов, Пильщиков 2011], И. Г. Добродомовым [Добродомов, Пильщиков 2008]. По афористически точной формулировке М. И. Шапира, «письменный, зрительный образ текста входит в его поэтику» [Шапир 2015: 147]. Согласно Шапиру, модернизация текста ведет к недопустимому, особенно в научных изданиях, искажению и семантики, и синтактики, и прагматики последнего (подробнее см.: [Шапир 2000], [Шапир 2009] и др.). Дополнительной причиной сохранения всех возможных особенностей материалов СЗ стало наличие довольно существенного количества ошибок и опечаток, обнаруживающихся на страницах журнала (в чем отдавали себе отчет его создатели, периодически сообщая об этих недочетах в обращениях «От редакцiи»). Текстолог же, как и всякий, кто имеет дело с анализом произведений, написанных с помощью старой орфографии, львиная доля которых к тому после этого не переиздавалась, едва ли должен брать «на себя обязанности корректора» [Шапир 2015: 149], хотя такая практика и широко распространена. Наконец, в СЗ регулярно встречаются разночтения, подчас весьма существенные, в названиях материалов: в содержании представлен один вариант заглавия, в основном тексте номера – другой; в списке литературе к нашей статье везде приводятся первые версии заглавий.
-
4 Одним из инвариантов журнала с самого начала стала тема консолидации (кооперации, объединения, организации) разрозненных (разобщенных, «распыленных») сил. Так, идеологическим ядром первого номера (как и практически всех остальных номеров) «Сибирских записок», несомненно, был «Областной отдел», в состав которого, в числе прочего, вошли программная статья Потанина «Изъ недавняго прошлаго» [Потанин 1916], а также очерки Д. И. Илимского, носящие характерное название «Отъ распыленности къ организацiи» и имевшие подзаголовок «Очерки сибирской кооперации» [Илимский
1916]. О необходимости кооперации говорил в этом же номере и К. И. Морозов, обсуждавший в статье «Текущая жизнь» (тоже включенной в «Областной отдел») причины возникшей в Российской империи во время Первой мировой войны «дороговизны» и приходивший к выводу о том, что «[д]ля правильной <…> постановки борьбы с дороговизной, принцип общественности должен быть руководящим во всех мероприятиях, и только тогда можно говорить о возможности планомерной организации и правильно построенных планах» [Морозов 1916: 137]. Этот тематический вариант пронизывает все номера СЗ , с той оговоркой, что на втором этапе существования журнала (1918–1919 гг.) идея объединения и консолидации соединяется с горечью авторов от упущенных возможностей и несбыв-шихся надежд на их осуществление.
-
5 Ср. в написанном рукою Крутовского обращении «От редакции», помещенном в первом номере за 1919 г.: «<…> редактором и издателем “Сибирских Записок” все время с первого и до послѣдняго дня состоял В. М. Крутовскiй и никто другой. Никакого редакціоннаго коллектива не было, а при журналѣ был очень малочисленный кружок друзей сотрудников, которые не оставляют журнал и теперь» [Редактор 1919: 2].
-
6 Кроме того, вспомним, что журнал существовал в эпоху, которую можно назвать «эпохой манифестов», создававшихся самыми разными литературными, политическими и другими силами.
-
7 Мы ограничиваемся теми изданиями, в названиях которых, как и в случае «Сибирских записок», есть эпитет «сибирский», а значит, обращенность к кругу «местных» вопросов манифестирована уже на уровне заглавия. Одновременно с этим взяты совершенно разноплановые по содержанию издания.
-
8 Показательно, что, аргументируя свой тезис, В. И. Шишкин не различает дискурсивный и практический аспекты: «Одни из них довольно объективно отражали реальное положение сибирской окраины в составе Российской империи в ее недавнем историческом прошлом и настоящем, другие являлись футуристическими мечтаниями и ожиданиями, плохо коррелировавшими с действительностью, возможностями и перспективами развития России начала нового, XX века» [Шишкин 2016: 49].
-
9 По мнению исследователя, «некотор[ым] ис-ключение[м]» можно считать статью К. Дубровского «И. В. Омулевский и его “Шаг за шагом” (По поводу 75-летия со дня рождения)» [Чмыха-ло 1992: 165], в которой содержится принципиальная полемика с ключевой для литературнокритического дискурса «старших» областников
работой Г. Н. Потанина «Роман и рассказ в Сибири» (1876).
-
10 На последней странице оказавшегося последним шестого номера за 1919 г. помещено объявление: «Открыта подписка на 1920-й год (5-й год изданiя) на литературный, научный и политическiй журнал “Сибирские Записки”».
-
11 Хотя цензурное давление на журнал, безусловно, оказывалось. Например, в четвертом номере за 1918 г. Крутовский отмечал, что авторы журнала имели возможности писать о «само-убiйств[е] Сибирск[ой] Областн[ой] Дум[ы]» и прекратившей своей существование «Сибирск[ой] автономi[и]», «так как вмѣстѣ с сибирской авто-номiей погибла и свобода сибирской печати. Мы можем сослаться сейчас лишь на оффициальныя сообщенiя, не касаясь даже правдивости истинной фактичности послѣдних» [В. К. 1918б: 90].
-
12 Мы основываемся на понимании метатек-стовых структур, предложенном В. С. Киселевым. См.: [Киселев 2006]. Необходимо оговориться, что исследователь работал с более ранними периодами развития русской литературы, однако предложенный им подход представляется релевантным и в нашем случае.
-
13 Ср. также «В черноземную глубь борозды» у Худякова и «В порабощенные бразды» у Пушкина [Т. 2: 145].
-
14 Ср. повтор «пушкинской» пары «дары свободы» / свобода как дар в следующем же предложении: «Свобода личности явилась даромъ только для лицъ, близко стоящихъ къ комитетамъ и партiйнымъ организацiямъ» [В. К. 1917: 111].
-
15 Из приведенных примеров хорошо видно, что стихотворная продукция «Сибирских записок», как правило, эксплуатировала топику, которую К. В. Анисимов удачно назвал «[т]ранс-лирующ[ей]ся “из центра” номенклатур[ой] стереотипных образов Сибири» [Анисимов 2006. С. 141] и которую подвергали резкой критике Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев (подробнее об этом см., например: [Анисимов 2005]). По словам Б. А. Чмыхало, «[и]менно в поэзии “сибирская литература” обнаруживала банальную зависимость от “образцов”. И именно в поэзии проявлялась антихудожественная по существу роль “сибирской тенденции”» [Чмыхало 1992: 166].
-
16 Корпус претекстов едва ли ограничивается кругом поэтических произведений, ставших классическими. Специального изучения, безусловно, заслуживает вопрос о генетическом или типологическом характере связи поэтического корпуса СЗ с обширной традицией крестьянской поэзии, идущей от А. В. Кольцова и И. С. Никитина к И. З. Сурикову, участникам Суриковского литературно-музыкального кружка (которых
Н. В. Поселягин точно характеризует как представителей «мимикрического» типа культуры) и их многочисленным коллегам, позиционировавшим себя в литературном поле в качестве авторов «из народа». Другим направлением исследования должно стать рассмотрение стихотворной (и публицистической) продукции СЗ в перспективе народнического дискурса. Однако обсуждение всех этих вопросов выходит за рамки задач, стоящих перед авторами данной статьи.
Список литературы Журнал "Сибирские записки" как метатекст: система идеологических импликаций (1916-1917 гг.)
- Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX - начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 304 с.
- Анисимов К. В. Типологические аспекты русской литературы Сибири XIX - начала XX века // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2006. № 3. С. 141-148.
- Анисимов К. В., Разувалова А. И. Два века -две грани сибирского текста: областники vs. «деревенщики» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 1(27). С. 75-101.
- Добродомов И. Г., Пильщиков И. А. Лексика и фразеология «Евгения Онегина»: Герменевтические очерки. М.: Языки слав. культур, 2008. 312 с.
- Киселев В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII -первой трети XIX века. Томск: Изд-во Том. унта, 2006. 544 с.
- Перцов Н. В. О соотношении письменной и устной форм поэтического языка: (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания) // Вопросы языкознания. 2008. № 2. С. 30-56.
- Перцов Н. В., Пильщиков И. А. О лингвистических аспектах текстологии // Вопросы языкознания. 2011. № 5. С. 3-29.
- Чмыхало Б. А. Молодая Сибирь: Регионализм в истории русской литературы. Красноярск: КГПИ, 1992. 200 с.
- Шапир М. И. О текстологии «Евгения Онегина» (орфография, поэтика и семантика) // Шапир М.И. Universum versus: Язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII-XX веков. М.: Языки рус. культуры, 2000. Кн. 1. С. 224-240.
- Шапир М. И. Об орфографическом режиме в академических изданиях Пушкина // Шапир М. И. Статьи о Пушкине / сост. Т. М. Левина: изд. под-гот. К. А. Головастиков, Т. М. Левина, И. А. Пильщиков; под общ. ред. И. А. Пильщикова. М.: Языки слав. культур, 2009. С. 265-274.
- Шапир М. И. Между грамматикой и поэтикой (О новом подходе к изданию Даниила Хармса) // Шапир М. И. Universum versus: Язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII-XX веков / под ред. А. С. Белоусовой и В. С. Полиловой, при участии С. Г. Болотова и И. А. Пильщикова. М.: Языки славянской культуры, 2015. Кн. 2. С.145-150.
- Шишкин В. Сибирское областничество в контексте революционных событий марта-октября 1917 года // Acta Slavica Iaponica. 2016. Tomus. 37. P. 47-71.