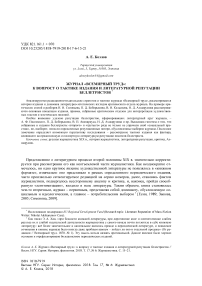Журнал "Всемирный труд": к вопросу о тактике издания и литературной репутации беллетристов
Автор: Козлов Алексей Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализируются редакционно-издательские стратегии и тактики журнала «Всемирный труд», рассматривается история издания и динамика литературно-эстетических взглядов критического отдела журнала. На примере критических статей и разборов Н. И. Соловьева, П. Д. Боборыкина, В. И. Кельсиева, Н. Д. Ахшарумова рассматриваются основные концепции издания, приемы, избранные критическим отделом для интерпретации художественных текстов и эстетических явлений. Особое внимание уделено репутации беллетристов, сформировавших литературный круг журнала, - А. Ф. Писемского, П. Д. Боборыкина, В. П. Авенариуса, Н. Д. Ахшарумова и пр. Высказана гипотеза о том, что собранные в издании беллетристы «второго» и «третьего» ряда не только не упрочили свой «социальный престиж», но, наоборот, понесли определенные репутационные потери, обусловленные выбором журнала. Последнее замечание определяет возможную перспективу исследования - рассмотрение тактики издания как фактора, влияющего на прижизненную и посмертную литературную репутацию писателя-беллетриста.
Русская журналистика xix в., история журналистики, литературная репутация, критика, ахшарумов
Короткий адрес: https://sciup.org/147219970
IDR: 147219970 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-6-15-21
Текст научной статьи Журнал "Всемирный труд": к вопросу о тактике издания и литературной репутации беллетристов
Представление о литературном процессе второй половины XIX в. значительно корректируется при рассмотрении его как неотъемлемой части журналистики. Как неоднократно отмечалось, ни одно крупное явление художественной литературы не появлялось в «книжном формате», изначально оно представало в рамках определенного периодического издания, часто произвольно сегментируемое редакцией на серию номеров, далее, становясь фактом журналистики, подвергалось всестороннему анализу и критике, и, наконец, пройдя своеобразную «легитимизацию», входило в поле литературы. Таким образом, книга становилась чем-то вторичным, журнал – первичным, представляя собой доминанту, обусловленную социальным и идеологическим, а главное – потребительским выбором 1 [Есин, 1989; Зыкова, 2005; Симонова, 2009].
* Исследование поддержано EU Regional Development Fund (Research topic: Literature Reputation of Mass-Fiction Writer: Nikolai Aksharumov Case).
В сущности, к 40-м гг. XIX в. журнал создавал эффект дублирующей реальности – он становился салоном, клубом по интересам, политическим и социальным кружком [Шкловский, 1990; Рейтблат, 2009]. В критике и публицистике стало нормой оценивать поступки и поведение героев русской беллетристики как выполненные по журналу 2, т. е. диктуемые социальной модой. Внутрижурнальная полемика неизбежно проецировалась на споры и баталии в действительности; неслучайно к середине 60-х гг. в дискурс повседневной журналистики входит понятие «литературной дуэли» 3.
Кажется вполне закономерным, что и прижизненная литературная репутация 4 писателя зачастую маркировалась, определялась теми периодическими изданиями, в которых публиковались авторские произведения. Так, например, «Вестник Европы» и «Русский вестник» к концу 60-х гг. осознавались как журналы консервативного толка, «Современник» и «Отечественные записки» (после перехода в журнал Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина) воспринимались преимущественно как либерально-демократические издания. Зачастую от того, какой журнал выбирал беллетрист, зависела его оценка критическим сообществом. Так, публикация романов «Отцы и дети» и «Преступление и наказание» в «Русском вестнике» воспринималась преимущественно как жест консервативной части общества, поэтому идентифицирующие себя с демократическими взглядами издания формировали критический взгляд не по эстетическим достоинствам или недостаткам, а по соответствию / несоответствию этих текстов либерально-демократическим установкам.
В этом контексте кажется показательной история периодического издания «Всемирный труд». Это издание, появившееся в 1867 г., просуществовало 6 лет и было закрыто правительственным распоряжением в 1872-м. За время своего существования журнал неоднократно менял редакционно-издательскую стратегию, избирая новые, ранее несвойственные ему тактики для захвата большего социального поля.
В первый год своего существования, журнал, инициированный и издаваемым Э. А. Ханом, значительное место и внимание отводил журнальной полемике и литературной критике. Уже в первом номере Н. И. Соловьев выразил свою (и, разумеется, журнальную) позицию в статье «Принципы жизни»: «Мы переходим, мы сошли с чего-то; колёса, на которых до сих пор катились по пути прогресса, отброшены в сторону; телега жизни и лихой ямщик – седое время, направляют нас к чему-то другому, и эта даль без конца, эта ширь земли родной раскрылась еще больше нашим, отвыкшим от простора, взорам» 5. Характеризуя современную социальную действительность как «туман из скопления абстрактных идей и полумистиче-ских мечтаний» 6, критик в то же время призывал читателей придерживаться определенного курса, соотносимого с консервативными установками других, успевших себя зарекомендовать, периодических изданий. В частности, Соловьев призывал задуматься о ценностях семьи, гражданственности, законопослушности. Искусство, по версии Соловьева, служит этой задаче недостаточно удовлетворительно, что порождает хаос общественной жизни.
Кажутся характерными используемые критиком метафоры, взятые из полемических романов [Старыгина, 2003] 60-х гг.: «И этот вихрь жизни, это вечно клокочущее море житейское никогда не имело такого широкого разлива как теперь: современного человека не только давит нужда, душит недостаток вольного воздуха, но он еще захлебывается в волнах неудержимой страсти» 7, – пишет Соловьев в статье «Суета сует». Обращаясь к прецедентным текстам (книга «Экклезиаст»), Соловьев в то же время проецирует ее пессимистическое содержание на современное состояние российского искусства. В частности, он обращается к детальному разбору романов А. Ф. Писемского, Вс. Крестовского, Н. С. Лескова. Утверждая, что данные беллетристы обладают особым повествовательным талантом, он в то же время показывает негативные стороны их эстетической деятельности. Н. И. Соловьев упрекает их за искусственность характеров, непомерную растянутость произведений (в частности, «Некуда» и «Петербургские трущобы»), прямо называя «Некуда» неудачным продолжением неудачного же романа «Взбаламученное море» и уничижительно сравнивая сочинения Крестовского с произведениями французской беллетристики. По всей видимости, своими статьями критик даже перешел границу дозволенного (критикуемые А. Ф. Писемский и Вс. Крестовский публиковали в первых номерах «Всемирного труда» свои произведения), поскольку в дальнейшем критическому разбору подвергались только произведения г-на Стебницкого – Н. Лесков, оставивший в адрес издания близкий к инвективе отзыв 8, был подходящей мишенью для упражнений критики. Сходную с Соловьевым стратегию избрал и Е. Эдельсон в очерках «О значении искусства в цивилизации». Представив довольно поверхностный обзор мировых литератур – греческой, латинской, восточной (китайской), перейдя к эпохе Возрождения, исследователь далее, игнорируя более чем трехвековую дистанцию, обращался к современным произведениям, описывая их в едином нерасчлененном контексте.
Несколько иной тип критики представлен в статьях Н. Д. Ахшарумова. Не останавливаясь на эстетическом состоянии эпохи в целом, Ахшарумов представил в своих статьях так называемый имманентный анализ художественного текста. Его разборы романов «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «1805-й» («Война и мир» Л. Н. Толстого) представляют собой образец эстетической критики. В отличие от Соловьева, Эдельсона, Авенариуса и многих других, Ахшарумов строит свои взгляды на эстетической концепции имманентного соответствия частей произведения целому. Благодаря этому в арсенале критика оказались многочисленные приемы, не доступные другим, более активным участникам критического отдела журнала 9. Близко к Ахшарумову стоит и П. Д. Боборыкин, изложивший свое видение концепции И. Тэна.
Пытаясь найти объединяющее начало, способное примирить утилитаризм и эстетизм, Н. И. Соловьев писал в середине 1868 г.: «Называют нас, например, эстетиком; так пусть так и останется за нами это название: будущее покажет, правы ли мы или нет» 10. Кажется знаменательным, что при смене номинации сущностные стратегии журнала не изменились. Продолжая свою излюбленную мысль, Н. Соловьев констатирует: «…литературу нашу еще, что называется, носит; хаос мнений и изменчивость убеждений по-прежнему страшные. Читающая публика, подобно толпе, глазеющей по циркам и театрам, почти безразлично переходит от лагеря к лагерю, от одной литературной лавочки к другой. Последнее обстоятельст- во еще тем более поддерживается, что самые вывески на этих лавочках потеряли свой смысл и что нет никакого prix-fixe тем убеждениям, которые приводятся в различных органах» 11. В этой же статье, в новой для него манере, Н. И. Соловьев представляет фельетонный катафалк, на который мысленно помещает Н. А. Некрасова и других бывших сотрудников «Современника»: среди «литературных покойников вынесен “Отечественными записками” юморист Щедрин» 12. Отталкиваясь от критических разборов Н. Д. Ахшарумова, Соловьев предпринимает попытку присвоить журналу литературную славу романа Толстого: «Мы даже уверены, что те из них, которые продолжают до сих пор верить, что “искусство ниже действительной жизни”, совсем не перенесут или не переживут романа “Война и мир”» 13. Данное сочинение было одним из последних критических разборов «туманного эстетика» (по меткому выражению С. А. Венгерова) Соловьева, опубликованных в журнале. Пришедший ему на смену В. И. Кельсиев продолжил ранее избранную линию: «Будущность перед нами стоит некрасивая. Старые писатели изгоняются из литературы, а новых у нас не заводится, и то, что и завелось, далеко не заменяет старых» 14. Однако, по всей видимости, к концу 1869 г. критический отдел «Всемирного труда» исчерпал свои ресурсы и был заменен множеством сочинений научно-популярного и исторического характера.
Казалось бы, ставя своей задачей борьбу с утилитаризмом (несмотря на явно утилитарные установки Н. И. Соловьева), практицизмом, материализмом, журнал должен был иметь серьезную беллетристическую программу. Тем не менее, кроме упомянутых выше А. Н. Островского и А. Ф. Писемского, после первых номеров прекративших сотрудничество с журналом, издание, несмотря на многочисленные заверения («Мы старались дать нашим читателям литературные произведения писателей, талант которых уже признан критикой и обществом и которые в настоящей русской литературе занимают первостепенное положение» 15), не смогло привлечь известных писателей или сформировать сколько-нибудь самостоятельный литературный круг. Свои художественные произведения публиковали здесь ветераны русской литературы: И. И. Лажечников, П. П. Каратыгин – уважаемые, но не оказавшие серьезного влияния на беллетристику; или же «подорвавшие» свою литературную репутацию – В. П. Авенариус, П. Д. Боборыкин, В. В. Крестовский, Н. Д. Ахшарумов и др. Следует также отметить, что неумеренный для 60-х гг. эротизм и физиологизм произведений В. П. Авенариуса (повести «Поветрие» 16, «Ты знаешь край?») и особенно П. Д. Боборыкина (повести «Жертва вечерняя», «На суд»), выступавших при этом поборниками нравственности, создавал нежелательную для издания ценностную амбивалентность. Наконец, своеобразный опыт социального анализа представил и Н. Д. Ахшарумов в аллегорическом романе «Граждане леса». При очевидности аналогий между утопическими социалистами и лесными животными экспериментальный метод Ахшарумова, как бы переписавшего «Рейнеке-Лиса» И. В. Гёте, был явно чужд современной литературе. Кажется примечательным, что за немногим исключением никто из участвующих в издании не обрел сколько-нибудь устойчивой литературной славы (несмотря на реплики критического отдела, осуждавшего оппонентов: «уже это известно кто, уже это известно почему или, как они еще там выражаются, какой-нибудь Авенариус, какой-нибудь Ахшарумов» 17). Журнал поразительным образом собрал беллетристов «второго» и «третьего» литературного рядов и при отсутствии сколько-нибудь прочерченной линии не оказал никакого положительного влияния на их «социальный престиж». Более того, складывается впечатление, что литературная репутация большинства из них прямо обусловлена этим эпизодом участия в беллетристическом отделе «Всемирного труда», чья непосле- довательность довольно быстро стала притчей во языцех 18. К концу 1869 г. журнал покинуло большинство его постоянных сотрудников, а уже в 12-м номере 1871 г. публиковались исключительно переводные или исторические сочинения.
В это время Э. А. Хан практически отказался от издательской деятельности, переложив обязанности на С. С. Окрейца. Обновленный «Всемирный труд» предлагал принципиально иную программу, последовательно отвергая консервативно-охранительную тактику издания. В объявлении сообщалось, что «новая редакция будет держаться программы партии строго прогрессивной и радикальной». В пример приводились «Гражданин» и «Русский вестник» М. Н. Каткова. Называя всех прогрессистов радикалами, издатель Окрейц в то же время пояснял: «Мы вполне сочувствуем этим людям и в нашем органе никогда не дадим места никаким утопиям, никаким юношеским мечтам, а только станем разрабатывать факты нашей общественной жизни и откликаться на ее настоящие, насущные нужды» 19. К сожалению, вышедшие затем 3 номера не позволяют составить представление об истинных намерениях редакции: возможно, это было рекламным ходом или примером Так называемой агональной риторики [Шатин, 2015]. Видимых изменений в беллетристическом и историческом отделах не произошло, однако сам тон, избранный для обзоров, оказался неприемлем: после 2-х предупреждений, последовавших 7 апреля 1872-го (за статьи «Быт дальних мест нашего отечества», «Политическое обозрение») и 24 мая 1872-го («Из вчерашнего Германии») распоряжением Министерства внутренних дел журнал был закрыт, и эпизод из истории журналистики получил статус литературного факта.
Суммируя представленные выше наблюдения, отметим, что данный эпизод истории русской журналистики является довольно показательным в плане прагматики и стратегии толстого журнала, определяющей социальный спрос и репутационное значение издания. Достаточно долго вырабатывая самостоятельную тактику, колеблясь в выборе между утилитаризмом и эстетизмом, практицизмом и рационализмом, «Всемирный труд» не мог привлечь читателя сколько-нибудь выстроенной и последовательной программой. Беллетристический отдел, зачастую компенсирующий такую рассогласованность, также должен был вызывать неоднозначное впечатление. Журнал, одновременно порицавший отрицательное направление в искусстве и романтизм новой прозы, с одной стороны, претендующий на утверждение новой эстетической программы, корректирующей взгляды В. Г. Белинского через И. Тэна (и фундаментальные статьи Н. Д. Ахшарумова и П. Д. Боборыкина) и отвечающий неуместными фельетонными нападками на незначительную критику демократических изданий, безусловно, в борьбе с «взбаламученным морем» общественного мнения, парадоксальным образом являл собой пример хаоса, неупорядоченности, чего-то неустоявшегося и от этого непривлекательного. Кажется уместным вспомнить в связи с этим слова критика Н. Д. Ахшарумова, которыми он завершал свой обзор романа Достоевского: «Покинутое сегодня – забыто завтра, и завтра же мы готовы плюнуть в глаза тому, кто поднимет брошенное, кто нам повторит то, что мы сами твердили еще накануне. <…> Нам тошно, мы задыхаемся, мы чувствуем, что нам сильно не достает чего-то, и начинаем уже догадываться, что это нечто совсем не так далеко от нас и не так мудрено, как мы думали; но нам обидно еще сознаться, что это нечто есть попросту – здравый смысл » 20. Недостаток этого ratio в редакционной тактике журнала становится очевидным при изучении как критического, так и беллетристического отделов журнала.
Особого внимания заслуживает и то обстоятельство, что репутация данного издания, оказала непосредственное влияние на «социальный и литературный престиж» участвующих в нем беллетристов. Последнее замечание открывает перспективу данного исследования, позволяя рассмотреть литературный круг и литературную среду как фактор, непосредственно влияющий на утверждение прижизненной и посмертной литературной репутации писателя-беллетриста.
Список литературы Журнал "Всемирный труд": к вопросу о тактике издания и литературной репутации беллетристов
- Венгеров С. А. Общий очерк истории новейшей русской литературы. СПб., 1907.
- Володина Н. В., Сумарокова Л. А. Н. Д. Ахшарумов о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вестн. Череповец. гос. ун-та. 2015. № 4.
- Зыкова Г. В. Поэтика русского журнала 1830-1870 гг. М.: Изд-во МГУ, 2005.
- Есин Б. И. История русской журналистики XIX века. М.: Высш. шк., 1989.
- Печерская Т. И. Свидетельство современников как источник литературной репутации // Памяти А. И. Журавлевой. М.: Триквадрата, 2012.
- Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: НЛО, 2009.
- Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: НЛО, 2001.
- Симонова Н. Б. Система периодической печати России (вторая половина XIX - начало XX в.). Новосибирск: Изд-во НГУ, 2009.
- Старыгина Н. Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860- 1870-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Шатин Ю. В. Русская литература в зеркале семиотики. М.: Языки славянской культуры, 2015.
- Шкловский В. Б. Журнал как литературная форма // Шкловский В. Б. Гамбургский счёт. М., 1990.
- Bourdieu P. Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford University Press, 1996.