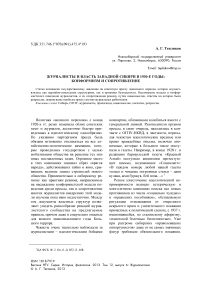Журналисты и власть Западной Сибири в 1930-е годы: конформизм и сопротивление
Автор: Тепляков Алексей Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена государственному давлению на советскую прессу довоенного периода, которое осуществлялось как партийно-советскими структурами, так и органами безопасности. Рассмотрены модели и конформистского поведения журналистов, и их сопротивления режиму путем инакомыслия, ответом на которое были репрессии, затронувшие наиболее ярких газетно-журнальных работников.
Сибирь, огпу, журналисты, пропаганда, инакомыслие, опечатки, репрессии, repressions. удк 82.09
Короткий адрес: https://sciup.org/147218868
IDR: 147218868 | УДК: 351.746.1"070.(091).475.4"193
Текст научной статьи Журналисты и власть Западной Сибири в 1930-е годы: конформизм и сопротивление
Политика «великого перелома» с конца 1920-х гг. резко изменила облик советских газет и журналов, достаточно быстро приведенных к идеологическому однообразию. По указанию парторганов пресса была обязана мгновенно откликаться на все хозяйственно-политические кампании, которые проводились государством с целью мобилизации общества на решение тех или иных поставленных задач. Огромное место в этих кампаниях занимал образ «врагов народа», действовавших тайно и явно, срывавших великие планы строителей нового общества. Применительно к сибирскому региону как практики режима, направленные на насаждение конформистской модели поведения среди прессы, так и сопротивление многих журналистов внедрению этой модели изучены пока явно недостаточно. Между тем документы властных структур позволяют увидеть разнообразие реакций журналистского сообщества на предлагаемые правила, причем даже в смертельно опасные для всякого инакомыслящего годы Большого террора.
Чекисты очень тщательно наблюдали за журналистами – идеологическими бойцами компартии, обязанными колебаться вместе с генеральной линией. Руководители органов прессы, в свою очередь, находились в контакте с ОГПУ-НКВД, в частности, пересылая чекистам идеологические вредные или прямо враждебные письма, включая анонимные, которые в большом числе поступали в газеты. Например, в конце 1928 г. в редакцию барнаульской газеты «Красный Алтай» поступило анонимное протестующее письмо, подписанное «Социалист»: «В каждом номере любой нашей газеты только и читаешь погромные статьи – дави кулака, жми буржуя, бей попа…» 1
Резкое ужесточение идеологической непримиримости вызвало истерическую и многолетнюю кампанию поиска все новых противников из числа «социально чуждых» и «вражеских пособников», обставляемую ритуалами отмежевания от очередного вскрытого врага и унизительного покаяния причастных к политической слепоте, с 1937 г. именовавшейся, по сталинскому афоризму, «идиотской болезнью беспечностью». Уже при разгроме сибирских «праволевацких оппортунистов» даже от не самых значимых фигур требовали обязательного покаяния.
Так, в ноябре 1930 г. «Советская Сибирь» критиковала томскую газету «Красное знамя» за публикацию, «да еще на первой полосе (да к тому же крупным шрифтом) открытого письма (в стихах) сотрудника редакции П. Семынина “Своему бывшему другу, ныне предателю-двурушнику А. Л. Курсу”. Формально выступая против [бывшего редактора “Советской Сибири”] Курса в этом своем стихотворении[,] “открытом” письме[,] по сути дела, ясно обнаруживал, что сам он продолжает находиться в плену оппортунистически-курсов-ских литературно-газетных теорий. Это вскоре и подтвердилось с полной очевидностью: Семынин открыто выступил на собрании ячейки в защиту оппортунистов фракционеров [Н. В.] Степанова и [А. А.] Панкрушина, за что и был исключен из комсомола» [Советская Сибирь. 1930. С. 3].
Поскольку журналисты были сравнительно информированными людьми, многие из них небеспрекословно приспосабливались к идеологическому и цензурному гнету. Было сопротивление и принуждению делать редакции приютом для секретных работников ОГПУ. В 1928 г. редактор газеты «Кузбасс» Н. Житловский на одном из совещаний четко выразил отношение к использованию газеты для нужд политической полиции: «Как же работа с собкорами не будет слаба, когда наш платный сотрудник “Кузбасса” служит резидентом ГПУ и принимает сексотов ГПУ, что отрывает его от непосредственной работы». Житловского за расконспирирование тайного чекиста сняли с работы и объявили ему строгий партийный выговор [Кушникова и др., 1998. С. 19].
Неизбежной платой за сохранение профессии для любых, в том числе известных, имен был конформизм, выражавшийся в формах, шокирующих сегодняшнего читателя своей откровенностью. Многие творческие личности готовы были присоединиться к В. Маяковскому, который, выступая 25 марта 1930 г. на своем юбилейном вечере, сказал: «Почему я должен писать о любви Мани к Пете, а не рассматривать себя как часть того государственного органа, который строит жизнь? ...Поэт тот, кто в нашей обостренной классовой борьбе... не гнушается никакой черной работой, и пишет агитки по любому хозяйственному вопросу... То, что мне велят, это правильно. Но я хочу так, чтобы мне велели!.. (Апло- дисменты)». Известнейший сибирский журналист В. Д. Вегман в сентябре 1930 г. на I Съезде секции научных работников Западно-Сибирского края заявил: «Мы, коммунисты, считаем своим коммунистическим долгом обо всем, что… идет во вред Советской власти… немедленно об этом сообщать куда следует…» [Павлова, 2000. С. 37–38].
На партийной чистке новосибирских писателей в 1934 г. прозвучали обращенные к писателям и журналистам руководящие требования «решительно изменить методы своей творческой работы, чтобы в действительности осуществлять авангардную роль на этом ответственном участке работы партии... повести решительную борьбу с самотеком в выборе писателями тем для творческой работы, безпощадно разоблачая и критикуя укоренившиеся вредные представления о том, что творческая работа писателя всецело зависит от “вдохновения”...» и не может быть уложена в какие-то строгие рамки 2.
У каждого заметного литератора были свои реакции на государственое удушение. Затравленный автор острых рассказов и очерков В. Я. Зазубрин был вынужден покинуть Сибирь. В. А. Итин оставил малоактуальную фантастику и ушел в журналистику, воспевая большевиков – первопроходцев Северного морского пути. До 1937 г. он был одним из ведущих руководителей новосибирской литературной жизни, постоянно консультируясь с видными чекистами по поводу лояльности и допустимости в печати того или иного литератора. Возможной попыткой спастись у новосибирского писателя М. А. Кравкова, бывшего видного эсера и деятеля колчаковской власти, был переезд в провинцию после кратковременного ареста в начале 1930-х гг. Юный поэт и журналист А. П. Смердов дал во время следствия в 1936 г. необходимые показания, был быстро освобожден и с тех пор постоянно демонстрировал лояльность, восходя по номенклатурной лестнице и привлекаясь органами госбезопасностями к даче консультаций по «вредным» литературным произведениям, изымаемым у арестованных 3.
Одновременно с усилением нажима и чистками шло быстрое наращивание журна- листских сил за счет районных газет, изданий политотделов МТС и совхозов, в результате чего власть не всегда успевала должным образом проконтролировать облик новых изданий. Также характерен долгоживущий феномен неподцензурной самодеятельной журналистики, как правило молодежной, а нередко и подростковой. В архивах то и дело встречаются сведения о выпуске студентами и старшеклассниками нелегальных, обычно рукописных изданий. Резкие публикации периодически проходили в такой малоизученной сфере, как стенная печать. Так, в конце 1936 г. работники Томского горкома ВКП(б) с негодованием отмечали факт появления в стенгазете химического факультета индустриального института и провисевшей несколько дней иронической заметки «Талантливый педагог», где критиковался преподаватель общественных наук Иванов за эпитеты, употреблявшиеся им по адресу троцкистов: гадины, бешеные собаки, стая шакалов и т. п. [Власть и интеллигенция, 2004. С. 132].
Не только развитые читатели газет испытывали дискомфорт в связи с мертвящей идеологической заданностью советской прессы, росшей количественно, но деградировавшей морально и профессионально. В малоизученной жизни как больших газет, так и множества крохотных коллективов районной и ведомственной прессы происходили неоднозначные процессы и, несмотря на видимую убогость формы и содержания, отнюдь не всегда наличествовало официозное единомыслие. Вынужденное двоемыслие работников печати, внутренние конфликты в связи с необходимостью выпускать погромные тексты в неряшливых агитационных газетках периодически вскрывались слежкой карательных структур.
Так, 8 июля 1937 г. по докладу начальника управления НКВД С. Н. Миронова Запсибкрайком принял особое постановление о «контрреволюционном литературном кружке» в Троицком районе (современный Алтайский край), организованном пятью годами ранее «праволевацкими уродами из контрреволюционного журнала “Настоящее”». Группа молодежи, в том числе комсомольской, сплотившаяся вокруг руководства районной газеты во главе с И. Ф. Сапруновым, обменивалась запрещенной литературой, сочиняла и записывала
«антисоветский фольклор», вела «гнусные клеветнические разговоры против партии и советской власти» [Тепляков, 2009. С. 220].
Докладная записка инструктора отдела руководящих парторганов Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Казака называет участников этого кружка при газете «Сталинское знамя», организованного в конце 1931 г. писателями Н. А. Алексеевым и П. В. Гинцелем. Во главе кружка находились братья Сапруновы: Иван Федосеевич, к 1937 г. перебравшийся в «Железнодорожник Кузбасса», Александр, заведующий районной библиотекой, затем работавший в газете Больше-Реченской МТС «За большевистские колхозы», а с 1935 г. – сотрудник «Сельской правды», и Леонид – работник газеты «Рельсы Кузбасса» (ст. Топки). В кружок входили: И. И. Петров («Рельсы Кузбасса»), М. И. Прокудин – секретарь «Сталинского знамени», призванный в 1936 г. в РККА, А. А. Бессонов – секретарь «Сталинского знамени», Л. А. Максимов – заведующий отделом политучебы Троицкого райкома ВЛКСМ, С. И. Тарасов – массовик колхоза, И. К. Варламов – житель с. Троицкое. Помимо этих девятерых, входивших в состав кружка изначально, его позднее пополнили новый редактор «Сталинского знамени» П. А. Кочетков, а также Ф. Долматов, В. Горностаев, Кусов и Несговоров. После отъезда Ивана и Александра Сапруновых кружком руководили С. И. Тарасов и П. А. Кочетков. После снятия Кочеткова с редакторства за публикацию «контрреволюционных» фельетонов в руководстве кружком его заменил Анатолий Бессонов, якобы получавший «директивные указания» от троих братьев Сапруновых 4.
Члены кружка читали и разбирали изъятую к тому времени из обращения политическую и художественную литературу, писали на «антисоветские темы» стихи, куплеты, частушки, песни, зарисовки, рассказы и фельетоны. Сапруновы утверждали, что «мы не должны подпевать эпохе», что «писатель должен находиться вне времени и пространства». Кружковцам инкриминировалась клевета на вождей, политотделы МТС и совхозов, коллективизацию, стахановцев и Сталинскую конституцию. Чекисты проворонили кружок, и о нем узнали с подачи партийных властей. У Тарасова при обыске была обнаружена «контрреволюционная литература», стенограмма выступления Троцкого и его же книга «О молодежи», Ветхий и Новый Завет, сочинения Бунина, Есенина и других авторов. У Бессонова изъяли три тетради «антисоветского фольклора и вульгарных анекдотов», еще одну тетрадь «с контрреволюционными пошлостями», обнаруженную в его столе редактором «тов. Смелой», он успел уничтожить 5 . А. А. Бессонов, П. А. Кочетков, И. И. Петров и С. И. Тарасов были арестованы и осуждены на 8–10 лет заключения. Широкий состав кружка говорил о наличии заметных протестных настроений в общественно активной молодежной среде.
О главных проблемах общества писать в прессе было невозможно. Самым жестким табу была окружена тема голода и репрессий первой половины 1930-х гг., когда сибирская деревня потеряла в результате бегства в города и смертности от голода полмиллиона человек. Как сообщал по линии спецорганов на Лубянку полпред ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю И. П. Зир-нис, весной 1933 г. иркутская учащаяся молодежь была вынуждена добывать нетрадиционные продукты питания: «За последние две недели мы отмечаем, что студенты по ночам в одиночку и группами бьют кошек и собак, обращая себе на питание» 6. Но у людей была острая потребность получать неподцензурную информацию, ради которой они по-настоящему рисковали. Например, бюро Татарского райкома ВКП(б) отмечало, что в местном отделении Госбанка «в 1935 г. …нашлись люди, которые ездили в Омск за получением контрреволюционных частушек и анекдотов» 7.
Однако один раз о том, что творилось в Сибири тех лет, можно было прочесть в газете в результате грубой промашки партийной печати, в нескольких словах точно охарактеризовавшей все происходящее. 3 ноября 1933 г. краевая «Сельская правда» вышла с торжественной шапкой, приуроченной к октябрьской годовщине: «На земле, залитой кровью, создана новая колхозная жизнь». За напечатание «Сельской правдой» невольной правды бюро Запсибкрайкома
ВКП(б) постановило редактору Понурову дать выговор, а номер с заголовком, «имеющим контрреволюционную сущность», изъять [Тепляков, 2009. С. 59].
В связи с подобными эпизодами партийные и чекистские органы всемерно усиливали идеологический контроль, разыскивая крамолу даже в опечатках. Террор опечаток – вечный дамоклов меч советских газетно-журнальных работников, ибо в самых раболепных формулах и приветствиях одна-единственная искаженная или пропущенная буква, нарушенный порядок слов, стилистическая погрешность переворачивали смысл сказанного на прямо противоположный.
Несмотря на все строгости, малограмотные газетные работники постоянно ошибались самыми дискредитирующими, с точки зрения властей, способами. Например, в газете «Красный Алтай» за год с небольшим прошел целый ряд опечаток «контрреволюционного» характера. Например, в апреле 1936 г. газета заявила, что советское правительство «как никакое другое правительство в мире не умеет ценить работу людей». 22 января 1937 г. стилистическая промашка дала такой результат: «Мы с чувством глубокой ненависти и презрения заслушали сообщение прокуратуры о раскрытии контрреволюционного антисоветского центра». 17 июня 1937 г. газета отметила, что «Красная армия... превратилась в самую сильную, крепкую и безспособную армию в мире». А приветствие папанинцев Сталину 25 июля 1937 г. в варианте «Красного Алтая» гласило: «Вы лично указали план и средства и низменно продолжаете поддерживать полярников руководством и вниманием» 8.
Но и в краевой «Советской Сибири» дела обстояли не лучше. 28 января 1937 г. в большей части тиража прошел заголовок «Подлый (вместо «полный». – А. Т.) крах мерзких планов», а 24 июля 1937 г. полосы сверстали так, что если их посмотреть на просвет, то на фотопортрет А. И. Микояна (первая полоса) были направлены штыки осоавиа-химовцев (вторая полоса). Лишь в последнюю минуту это «вредительство» было замечено и устранено. Однако уже 18 июля газета опубликовала портрет наркома внутренних дел Ежова с якобы «свастикой на пуговице» 9 . Подобные эпизоды наблюдались повсеместно. Например, «Известия» 27 июня 1937 г. негодовали по поводу того, что передовица «Правды» от 22 мая «Защитники троцкистско-японо-германских шпионов и диверсантов» перепечатана в газете «Красноярский рабочий» с пропуском в заголовке слова «японо». Известинский автор восклицал: «Что это, как не услуга японским шпионам и диверсантам?»
Руководство Сибири в 1930-е гг. было одним из самых просталинских. Многолетний секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе, арестованный в 1938 г., в письме Сталину из тюрьмы заверял, что он все время работы в Сибири «решительно и беспощадно проводил линию партии» [Реабилитация..., 2000. С. 327]. Региональные власти яростно преследовали и тех, кто сопротивлялся прославлению террора, и тех, кто по тем или иным причинам оказывался недостаточно бдительным. Редактор политотдельской газеты в Коченевском зерносовхозе ЗСК К. Н. Соколов был решением бюро крайкома 28 сентября 1936 г. исклюю-чен из партии за «отказ печатать в газете приговор Военной коллегии Верхсуда над контрреволюционной троцкистско-зиновь-евской фашистской бандой» 10.
Будущий редактор «Алтайской правды» И. Портянкин 7 сентября 1936 г. сообщал в крайком, что выходившая в Сталинске «Большевистская сталь» во время процесса над группой Зиновьева и Каменева не опубликовала целых пять «наиболее политически острых передовых статей» из «Правды» – «Великий гнев великого народа», «Раздавить гадину», «Троцкий-Зиновьев-Ка-менев-Гестапо», «Взбесившихся собак надо расстрелять» и «Приговор суда – приговор народа». Особо обращалось внимание на то, что в одной из передовиц «Большевистской стали» было «совершенно неуместно, не ко времени сказано: “Пролетариат не жаждет кровавой мести. Нет гуманнее народа, чем граждане СССР”. Эта фраза выглядит крайне неуместно, несмотря на то, что и до нее, и после нее идет речь о применении к банде убийц высшей меры наказания». Газета критиковалась Портянкиным и за то, что на смертный приговор зиновьевцам было напечатано всего пять одобрительных откликов, причем они оказались «не обобщены политически острыми заголовками, мобилизующими ненависть масс к троцкистско-зиновьевской банде», а в номерах за 18 и 20 августа слово «расстрел» упоминалось лишь трижды. В ответ Эйхе велел вызвать редактора в крайком и заслушать его объяснения на бюро 11.
Тогда же Портянкин разоблачил и редакторов газеты «Тайснейба», которые оказались способны испытывать чувство стыда за открытые призывы к убийствам. Его послание именовалось «Справкой о грубейших искажениях и извращениях, допущенных краевой латгальской газетой “Тайснейба” при переводах важнейших политических документов и статей…» Например, в номере за 20 августа 1936 г. была перепечатана передовица «Правды» от 17 августа «Страна клеймит подлых убийц». Ее первый абзац в подлиннике выглядел так: «Возмущение охватило народные массы, как только они узнали о преступлении кучки подлых убийц, возглавляемых изменниками нашей родины: Троцким, Зиновьевым, Каменевым и другими. Уже самая измена этих выродков вызывает чувство гадливости у каждого честного человека». А «Тайснейба» в этом образчике политической публицистики пропустила эпитеты «кучки» и «выродков». Правдинский призыв: «Врагам народа, изменникам – трижды проклятым Зиновьеву, Каменеву и другим – никакой пощады!» в «Тайснейбе» буквально выхолостили, пропустив самые главные слова: «Врагам народа, изменникам – трижды проклятым…» 12 В 1937 г. газета была ликвидирована, а ее издатели и авторы уничтожены.
Репрессиям в 1930-х гг. подверглось множество работников печати. Журналист «Сиб-роста» В. П. Музыченко весной 1933 г. по обвинению в причастности к «белогвардейскому заговору» во главе с бывшим генералом В. Г. Болдыревым получил 5 лет лагерей. Характерным было дело 1936 г. против ряда молодых журналистов краевой комсомольской газеты «Большевистская смена» (А. А. Панкрушина, В. А. Зверева, В . И. Александрова, А. Р. Пугачева, А. И. Смердова), обвинявшихся в антисоветской пропаганде [Папков, 2011. С. 180].
Диспут, проведенный Панкрушиным под нарочито провокационным названием «Был ли Хлебников фашистом», наглядно показывает, насколько острыми и интересными могли быть обсуждения необычных тем даже в середине 1930-х гг. Чекисты отметили, что в своем выступлении на диспуте Панкрушин «протащил мысль» о том, что ВКП(б) не имеет особых заслуг перед Октябрьской революцией. Панкрушин признал, что пропагандировал «реакционноантисоветского» Н. Заболоцкого, «пессимистов» О. Хайяма, Ф. Сологуба, В. Хлебникова, «расстрелянного Гумилева» и «буржуазного упадочного формалиста» Дж. Джойса, а также по идее комсомольца-поэта А. Р. Пугачева задумал писать киносценарий «Какова ценность человеческой жизни в период социалистического строительства» 13.
А. А. Панкрушин, В. И. Александров и В. А. Зверев были осуждены, но выжили. В 1936 г. во время следствия погиб патриарх сибирской журналистики В. Д. Вегман. Осужденных в 1937–1938 гг. новосибирских литераторов А. А. Ансона, Г. А. Вяткина, В. А. Итина, И. Т. Гуля, М. А. Кравкова, А. Н. Огурцова (Андрея Кручину), Н. В . Степанова ждал расстрел. Репортеры «Советской Сибири» В. А. Язвинский и В. И. Мрач-ковский 21 октября 1938 г. были расстреляны как польские шпионы. Этот мартиролог далек от полноты.
Вторая половина 1930-х гг. стала катастрофой для журналистов. Несмотря на преобладание успешно навязанной конформистской модели поведения, власть обрушила на них беспощадные репрессии. Были истреблены целые творческие коллективы, прежде всего в связи с массовым террором против представителей нацменьшинств.
Уже невозможно было представить существование в журналистике ярких политических фигур, подобных Н. И. Бухарину и Л. С. Сосновскому из «Известий» или сибиряку В. Д. Вегману. Но и среди толпы идеологически выдержанных солдат партии, «проваренных в чистках как соль», сохранялись настоящие журналисты, находившие актуальные темы, писавшие смело, защищавшие людей от чиновничьего произвола и оставившие добрую память. Изучение проявлений свободомыслия среди газетножурнальных и издательских работников является интересной исследовательской задачей, призванной показать неоднозначность и стереоскопичность такой подконтрольной идеологической сферы, как советская журналистика сталинской поры.
JOURNALISTS AND AUTHORITIES IN WEST SIBERIA IN THE 1930s: CONFORMISM AND RESISTANCE
Список литературы Журналисты и власть Западной Сибири в 1930-е годы: конформизм и сопротивление
- Власть и интеллигенция в советской провинции (1933- 1937 годы): Сб. док. / Сост. С. А. Красильников, Л. И. Пыстина, Л. С. Пащенко. Новосибирск, 2004. 352 с.
- Кушникова М., Сергиенко В., Тогулев В. Страницы истории города Кемерово. Кемерово, 1998. Кн. 2. 666 с.
- Павлова И. В. В. Д. Вегман. Штрихи к портрету // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 2. С. 35-40.
- Папков С. Организация писателей Сибири и НКВД: погром 1936 года // Сибирские огни. 2011. № 2. С. 180-188.
- Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. М., 2000. Т. 1: Март 1953 - февраль 1956. 503 с.
- Советская Сибирь. 1930. 21 нояб.
- Тепляков А. Г. Опричники Сталина. М., 2009. 432 с.