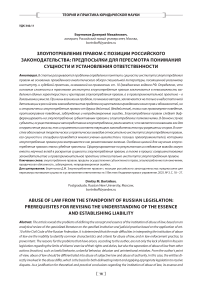Злоупотребление правом с позиции российского законодательства: предпосылки для пересмотра понимания сущности и установления ответственности
Автор: Бортников Д.М.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются проблемы определения понятия и сущности института злоупотребления правом на основании проведенного аналитического обзора специальной литературы, посвященной указанному институту, и судебной практики, основанной на применении ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Определено, что основные сложности в трактовке института злоупотребления правом заключаются в невозможности выделения единых характеристик и критериев злоупотребления правом, а в правоприменительной практике – в доказывании умысла. Причины возникших проблем, по мнению автора, заключаются не только в недостаточной детализации в российском законодательстве пределов осуществления гражданами своих прав и обязанностей, но и отграничении злоупотребления правом от других действий (бездействия), таких как правомерное поведение, противоправное поведение, заблуждение и непреднамеренные ошибки. Злоупотребление правом следует дифференцировать на злоупотребление субъективным правом и злоупотребление полномочиями. В данном случае субъекты, осуществляющие непосредственно злоупотребление, различаются, что является основанием как для отграничения умысла, так и применения соответствующего законодательства при разрешении споров. В качестве обоснования теоретических и практических выводов относительно института злоупотребления правом, его сущности и специфики приводятся мнения ученых-цивилистов и позиции правоприменителей, которыми злоупотребление правом рассматривается как разноплановое явление. Особенно ценной для изучения злоупотребления правом стала судебная практика. Сформулированные по результатам исследования выводы могут внести научный вклад в раскрытие сущности злоупотребления правом, а также в процесс совершенствование законодательства и правоприменительной практики относительно института злоупотребления правом.
Злоупотребление правом, пределы осуществления субъективного права, злоупотребление полномочиями, юридическая обязанность, заблуждение, непреднамеренная ошибка
Короткий адрес: https://sciup.org/14133187
IDR: 14133187 | УДК: 340.11
Текст научной статьи Злоупотребление правом с позиции российского законодательства: предпосылки для пересмотра понимания сущности и установления ответственности
С овременное представление о злоупотреблении правом, как в доктрине права, так и законодательстве Российской Федерации, является несколько размытым. Сохраняется правовая неопределенность применительно к толкованию данного термина, что во многом обусловлено отсутствием четко определенных границ реализации права, неких пределов, которые на практике определяются судами преимущественно на основании внутреннего убеждения либо в соответствии с правовыми позициями высших судов. Основная проблема заключается в том, что по своей сути злоупотреблением считается поведение до момента причинения вреда или нарушения прав иных лиц, основанное на потенциальном умысле определенного лица. Умысел, намерения физического лица – это сложные и трудно доказуемые категории, использование которых в большинстве случаев становится невозможным или затруднительным, поскольку они не фиксируются, не могут быть проверены, а оцениваются исключительно на основании толкования внешнего проявления, то есть поведения лица.
Нормы ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусматривают ответственность за злоупотребление правом, позволяя суду отказать в правовой защите виновного лица и применить определенные санкции. Злоупотребление правом может встречаться в различных отраслях, однако в российском законодательстве нет четкой дефиниции данного термина, что порождает дискуссии и принятие неоднозначных судебных решений.
Материалы и методы исследований
Основу исследования составили: системный, логический, сравнительно-правовой, формальноюридический методы познания. Применение обозначенных методов позволило раскрыть особенности злоупотребления правом, а также сформулировать предпосылки для пересмотра понимания сущности и установления ответственности.
Результаты исследования и их обсуждение
Признание прав личности и механизм их реализации базируются на презумпции правомерного поведения участников правоотношений, то есть на осознанном следовании правовым предписаниям. Однако в градации между строго правомерными и откровенно противоправными действиями существует особый феномен – злоупотребление субъективным правом.
Современная теория права, несмотря на значительное развитие концептуальных основ правомерного и неправомерного поведения, до сих пор в полной мере не охватывает правовую природу действий, формально не противоречащих нормам закона, но, тем не менее, нарушающих его дух или цели. Такое поведение становится предметом теоретической трансформации, в результате чего формируется самостоятельная правовая категория – злоупотребление правом. Отсутствие четкой, унифицированной дефиниции данного явления препятствует его нормативному закреплению и правоприменительной интерпретации, особенно с учётом необходимости единообразного судебного подхода. Указанная проблема остаётся актуальной в контексте стремления к формированию устойчивой правовой системы, основанной на верховенстве закона и обеспечении справедливости.
Гражданское законодательство Российской Федерации содержит упоминание о злоупотреблении правом как обосновании для отказа в защите нарушенного права. Однако само понятие лишено комплексной правовой характеристики, что обуславливает разнородность его трактовок в судебной и практической плоскости. Неопределённость критериев, позволяющих квалифицировать поведение как злоупотребление, препятствует как унификации правоприменения, так и совершенствованию правовых норм.
Особого внимания заслуживает анализ теоретических подходов, сложившихся в юридической науке относительно данной правовой категории. Термин указывает на наличие у лица определённого субъективного права, которое реализуется вразрез с его назначением. Этим подчёркивается правовая значимость рассматриваемого поведения, заключающаяся в его внешней формальной легитимности и внутренней несоразмерности правовому назначению. Употребление в семантике понятия морфемы «зло-» указывает на негативную оценку соответствующего деяния, при этом отсутствует основание для привлечения субъекта к юридической ответственности в традиционном понимании.
В юридической литературе подчёркивается отсутствие единого подхода к дефиниции рассматрива- емого феномена. К примеру, В.И. Гойман характеризует злоупотребление правом как действия, осуществляемые в интересах субъекта, однако противоречащие природе и задачам права; либо как использование таких средств и форм реализации прав, которые выходят за пределы правовых предписаний и подрывают их предназначение. Согласно этому подходу, речь идёт не о нарушении правовых норм в классическом смысле, а о поведении, которое подрывает правовую свободу и наносит вред другим субъектам, искажая цели правового регулирования [16].
Б.А. Антонович полагает, что защита прав и свобод человека в демократическом обществе, злоупотребление правом влечёт за собой:
-
• нарушение в образе жизни человека, которое расстраивает гармонию природы, частью которой он является, вместе с осуществлением его врожденных прав;
-
• умышленный отказ индивида от своего пра ва, предоставленного государством, выбирать свои действия и поведение в рамках общепринятых прав и свобод;
-
• право индивида становится основным компо нентом каждого юридического права и свободы его действий, что подлежит защите в государстве [9, с. 7].
Позиции указанных авторов свидетельствуют о прямой зависимости развития общества с его сложной структурой общественных отношений от увеличения случаев злоупотребления субъективным правом. В связи с этим законодателю необходимо минимизировать случаи злоупотребления правом посредством эффективного и действенного механизма.
Многие ученые, В.П. Грибанов, в частности, определяют злоупотребление правом как использование субъективных прав вопреки их предназначению и целям, что ведет к превышению предоставленных полномочий. Он видит в этом узкий специфический вид правонарушения, когда лицо действует в рамках своего права непозволенными способами, превышая разрешенные законом границы поведения [17].
Злоупотребление правом, согласно позиции Н.А. Дурново, – это поведение, которое соответствует правовым предписаниям, однако не является социально полезным, вследствие чего осуждается общественным мнением [20].
Возможность злоупотребить правом, как указывает Р.А. Кирюшкин, присутствует только в том случае, когда лицо данным правом обладает, что позволяет отграничивать злоупотребление от неправомерного поведения или правонарушения [24].
Исходя из этой предпосылки, которая представляется правильной, можно утверждать, что речь идет о выборе того или иного типа правового поведения. Признание наличия права предполагает, что только от его обладателя зависит, как именно право будет реализовано: в пределах, установленных нормами права границ или при отсутствии стремления нарушить права и посягнуть на интересы иных лиц.
Существенным в данном случае является момент злонамеренности, когда предопределяется возникновение дискуссий относительно того, предполагает ли шикана обязательное наличие вреда или нет, на чем заостряет внимание А.С. Губарь [18, с. 65].
В научной среде встречается точка зрения, согласно которой шиканой следует считать преднамеренные действия, формально не нарушающие нормы права, но направленные исключительно на причинение вреда другому лицу и не влекущие правовых последствий [28, с. 75]. Данный подход лёг в основу положений ст. 10 ГК РФ, где прямо указано на недопустимость реализации субъективных гражданских прав с намерением нанести ущерб [1]. При этом в той же норме закрепляется положение о том, что злоумышленное поведение, даже при формальной правомерности, может повлечь за собой последствия в виде права пострадавшего требовать компенсации убытков.
Исходя из действующего законодательства, очевидно, что злоупотребление правом представляет собой поведение, внешне соответствующее правовым нормам, но обусловленное противоправной мотивацией. В теоретической плоскости шикана рассматривается как крайняя форма подобного злоупотребления. Некоторые исследователи характеризуют её как наивысшее проявление зла в рамках гражданско-правовых отношений [13, с. 33]. Д.А. Матанцев, например, указывает, что её единственным квалифицирующим признаком выступает намерение причинить вред [31, с. 14].
Сложность квалификации подобного поведения усугубляется отсутствием очевидных правовых последствий и необходимостью доказывания субъективной стороной злонамеренности, которая по своей природе труднодоказуема. Именно это обстоятельство порождает трудности как в отграничении шиканы от правомерного поведения, так и её отличии от иных форм злоупотребления правом.
Согласно позиции В.А. Коротковой, существует распространённое среди правоведов мнение, что злоупотребление правом по своей природе значительно ближе к правомерному действию, нежели к правонарушению. В противном случае оно должно расцениваться как противоправное деяние, прямо нарушающее нормы права [26, с. 8].
Дискуссия о правовой природе злоупотребления правом остаётся открытой. Вопрос о том, следует ли относить подобное поведение к правомерным либо противоправным актам, в научной доктрине пока не получил окончательного решения. Представляется обоснованным выделение данной категории как находящейся вне традиционной дихотомии правомерного и неправомерного поведения: наличие злого умысла исключает квалификацию действия как правомерного, а отсутствие выраженного вреда или нарушения закона не даёт оснований для признания его противоправным.
Существуют и альтернативные концепции. Ряд авторов, в частности, трактуют шикану как разновидность деликта, подлежащего запрету. Подобная позиция представлена, например, в работах А.А. Малиновского, который рассматривает шикану как обычный состав гражданского правонарушения [30, с. 41]. Хотя данная точка зрения заслуживает внимания, признание шиканы и злоупотребления правом разновидностями деликтов влечёт риски смещения правовой квалификации в сторону публичного права. Поскольку гражданское право базируется на частноправовых началах, институционализация наказания вместо традиционной гражданско-правовой ответственности может дестабилизировать существующее отраслевое деление права. Усиление роли императивных методов регулирования противоречит самой природе гражданско-правовых отношений и способно повлечь за собой существенные доктринальные и прикладные последствия.
Сохранение разграничения между отраслями права необходимо для обеспечения правовой определённости, последовательности в правоприменении и устойчивого развития социально-правовых институтов. Отказ от этой дифференциации приведёт к подрыву фундаментальных принципов частного права и ограничению возможности гибкой адаптации нормативной базы к разнообразию частных правоотношений.
Злоупотребление правом, по убеждению Н.А. Дурново, представляет собой поведение, которое внешне соответствует правовым предписаниям, однако не является социально полезным, вследствие чего оно осуждается общественным мнением [20, с. 4].
В некоторых случаях злоупотребление правом характеризуется как правонарушение, и некоторые теоретики права полагают, что в данном случае присутствует именно правонарушение [12, с. 9], совершенное в пределах, предоставленных лицу как правообладателю полномочий [32, с. 306] с учетом свободы и ее пределов [11, с. 5].
При анализе понятия «злоупотребление правом» в современной литературе нередко акцентируется внимание на некоторой неопределенности, которая присутствует в действующем законодательстве. В частности, подразумевается использование нравственных категорий для определения понятия добросовестности, которое по своей сути не является нормативным [35, с. 65]. При этом добросовестность рассматривается как своего рода критерий, некая мо- дель социально одобряемого поведения, отклонение от которой позволяет утверждать, что иное – это недобросовестное поведение. Недобросовестность – выход за пределы установленного на уровне закона предела реализации гражданских прав [25, с. 55]. Присутствует в научной литературе и мнение о том, что недобросовестность как разновидность злоупотребления правом – это основание гражданско-правовой ответственности [33, с. 107].
Исследователи обращают внимание также на то, что присутствует иное понимание и добросовестности, и недобросовестности. Недобросовестность, в частности, рассматривается либо как понятие, полностью тождественное злоупотреблению правом, либо как одна из разновидностей злоупотребления [29, с. 245]. Добросовестность же не выделяется и не привлекает столь значимого внимания со стороны авторов научных трудов, в том числе по причине определения ее как нормы, которая должна быть условно идентична для всех либо для большинства членов определенного социума.
Однако категория добросовестности важна для уяснения сущности понятия злоупотребления правом. Добросовестность – это признак полностью правомерного поведения. Поведение может быть правомерным и в том случае, если оно рассматривается как недобросовестное, но при этом не предполагающее прямого нарушения запретов, совершения конкретизированных в законодательстве правонарушений, то есть в принципе не выходящее в целом за рамки допустимой свободы [10, с. 31].
Злоупотребление по своей сути – это внешне правомерное поведение, мотивация которого злонамеренна. Степень злонамеренности, если основываться на толковании положений российского гражданского законодательства, может существенно отличаться. В нормах права нашей страны не используется понятие «шикана» как крайняя, наиболее негативная степень проявления злоупотребления правом [23, с. 43], однако именно шикана как самостоятельная категория в праве обуславливает дискуссии по поводу того, надлежит ли рассматривать злоупотребление правом как правонарушение и социально неодобря-емое поведение, основанное на недобросовестности.
Интересными представляются исследования зарубежных авторов, указывающих на то, что концепция злоупотребления правом, сформировавшаяся после Римской империи, получила дальнейшее своё развитие в XIX веке в связи с распространением идеи «законного интереса» как мерила допустимого поведения, запрещая использование прав для вреда другим лицам [37, с. 236].
Например, в гражданских кодексах правовой системы таких континентальных стран, как Испания (ст. 7), имеются положения, препятствующие осу- ществлению прав с ущербом для третьих лиц и подчеркивающие важность добросовестности [22, с. 49]. В Гражданском уложении Германии (§ 226) обговаривается запрет на шикану, то есть на действия, направленные исключительно на причинение вреда, хотя немецкие ученые указывают на сложности доказывания и запрета таких действий [38, p. 12].
В англосаксонской системе подход к злоупотреблению правом эволюционировал из судебной практики. Лорд Холсбери в деле «Мэр Брэдфорда против Пиклза» высказался о законности осуществления прав, несмотря на подоплеку намерений [36, c. 396]. Современные английские статуты стремятся ограничить злоупотребление правом, подчеркивая его допустимость только при соблюдении смысла и добросовестности права. Однако судебная практика подчеркивает ограниченную эффективность таких ограничений в случаях, когда права четко определены и ограничены.
Если обратиться к нормам ГК РФ, то можно увидеть, что понятие злоупотребления правом в нем раскрывается как действие, то есть процесс реализации права, при котором мотив действия – это намерение причинения вреда другому лицу, стремление обойти закон, то есть противоправная цель при реализации права, а также недобросовестность при реализации права. В совокупности описанное поведение рассматривается как недопустимое [1].
Буквальное толкование закона позволяет утверждать, что злоупотребление правом может проявляться различным образом. При этом ключевые моменты – это либо намерение причинения вреда, что само по себе уже противоправно, но ненаказуемо с позиции административного и уголовного законодательства, либо прямо противоправная цель, либо недобросовестность поведения. В целом можно утверждать, что понятие злоупотребления правом допустимо разграничивать с позиции того, насколько вредным оно является.
Несмотря на определенность формулировок закона, в процессе правоприменения возникает проблема оценки конкретной ситуации, ее квалификации с позиции того, надлежит ли рассматривать поведение как злоупотребление правом, или оно не подпадает под характеристики закрепленного в законе.
Проблема наглядно проявляется и в свете того, что правовые позиции высших судов, благодаря которым в большинстве случаев нивелируются недостатки юридической техники законодателя, не позволяют сформировать четкую систему признаков злоупотребления правом как основу для квалификации в ситуации судебного разбирательства.
Применительно к злоупотреблению правом Пленум Верховного Суда Российской Федерации указывает на допустимость истолкования отклонения по- ведения от добросовестного как позволяющего определить его в качестве злоупотребления правом [7].
Злоупотреблением будет являться и чрезмерность защиты права, то есть применение мер, которые прямо не находятся под запретом, но являются избыточными как допускающие возможность нарушения прав иных лиц [8]. Однако некоторые теоретики придерживаются иной позиции, отмечая, что допустимое осуществление защиты не может рассматриваться как злоупотребление правом, так как оно признано государством и закреплено в законах [14, с. 99]. Позиция не бесспорная. Допустимо утверждать, что защита может рассматриваться как способ злоупотребления правом с учетом того, что действующие нормы права устанавливают определенные границы не только реализации права, но и его защиты, в том числе путем указания на допустимые запреты, а также наличия значимого критерия – недопустимости произвольного ограничения или нарушения прав иных лиц.
При определении сущности злоупотребления основной акцент ставится на запрете поведения, в результате которого причиняется вред иным лицам.
В частности, такую правовую позицию занял Конституционный Суд Российской Федерации, указав, что положения ст. 10 ГК РФ следует рассматривать как конкретизацию норм Конституции Российской Федерации о запрете нарушения прав иных лиц при осуществлении собственных [6].
Толкование данной правовой позиции высшего суда позволяет утверждать, что на практике злоупотребление правом рассматривается как тесно взаимосвязанное с причинением вреда, а доказывание злонамеренности осуществляется исходя из того, что вред был причинен.
Аналогичные правовые положения прописаны и в других нормативных актах страны. К примеру, ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает механизм защиты прав ребенка. Указанная статья определяет основания и процедуру реализации прав ребенка на защиту, в том числе регулирование случаев злоупотребления родительскими правами. Статья 69 того же кодекса отражает отношение законодателя к злоупотреблению родительских прав, классифицируя его как одно из обстоятельств, влекущих за собой лишение родительских прав [2].
Положения ст. 244.22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации также подчеркивает отрицательное отношение к злоупотреблению права и предусматривает наложение штрафных санкций в отношении лица, представляющего интересы группы лиц, в случае злоупотребления своими правами, предусмотренными гражданским процессуальным законодательством [4].
Аналогичный подход к злоупотреблению правом можно встретить в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 110, 111, 159, 225.10-1), которые дают нам полное основание утверждать, что злоупотребление правом и ненадлежащее поведение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, может причинить ущерб не только интересам противоположной стороны, но и всему судебному процессу [3].
Такой же принцип ограничения злоупотребления правом изложен в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). В п. 7 ст. 45 указывается, что недобросовестное заявление неосновательного административного иска, противодействие, в том числе систематическое, лиц, участвующих в деле, правильному и своевременному рассмотрению и разрешению административного дела, а также злоупотребление процессуальными правами в иных формах влечет за собой наступление для этих лиц последствий, предусмотренных КАС РФ [5].
Совокупно анализируя позиции теоретиков, нормы права и правовые позиции высших судов, можно утверждать, что злоупотребление правом не следует трактовать как правонарушение. Даже присутствие в законе указания на то, что установление факта злоупотребления может повлечь за собой отказ в защите нарушенного права, не позволяет рассматривать исследуемую категорию в качестве разновидности неправомерного поведения, а отказ в защите нарушенного права – как отдельный вид гражданско-правовой ответственности.
Современное понимание феномена злоупотребления правом в российской правовой доктрине и законодательной практике остаётся недостаточно чётким, характеризуется размытостью трактовок и сохраняющейся неопределённостью терминологических границ. Одной из ключевых причин подобного положения выступает отсутствие чётко очерченных рамок правомерного поведения, а также критериев допустимого осуществления субъективных прав. На практике такие границы формируются преимущественно судебными органами, руководствующимися правовыми позициями высших судебных инстанций либо собственным внутренним убеждением.
Существенная сложность заключается в том, что квалификация поведения в качестве злоупотребления осуществляется до момента наступления ущерба или нарушения интересов третьих лиц. При этом основанием оценки становится наличие деструктивного намерения, то есть потенциальной вредоносной цели в действиях субъекта. Однако в случаях, когда ущерб уже причинён либо права третьих лиц нарушены, действия индивида рассматриваются как противоправные и выходящие за пределы дозволенного.
Интенции и умысел, лежащие в основе соответствующего поведения, представляют собой категории, требующие особой юридической оценки. Эти феномены, как правило, не фиксируются объективно, не подлежат прямой проверке и поддаются интерпретации исключительно на основании наблюдаемого поведения субъекта. Следовательно, доказательственная база, подтверждающая недобросовестную цель, формируется на косвенных основаниях, что затрудняет правовую квалификацию.
Дополнительные трудности возникают в тех случаях, когда в действиях субъекта отсутствует намерение причинить вред, но имеет место ошибка в понимании объёма предоставленных прав либо в интерпретации условий их реализации. Актуальные примеры подобной правовой неопределённости приведены, в частности, А.Б. Диваевым, указывающим на ситуации, когда обладатель субъективного права, не осознавая неправомерности поведения и действуя без вины, заблуждается в оценке правовой действительности, тем самым формируя отклонение от правового назначения своего поведения [19].
Сходную позицию высказывает О.В. Желева, подчёркивая, что участник уголовного судопроизводства, многократно обжалуя процессуальные действия должностных лиц при отсутствии к тому объективных оснований, может действовать не умышленно, а по причине недостаточного разъяснения содержания предоставленных прав либо вследствие ошибочного представления о праве на защиту [21].
Наличие субъективного компонента в виде злонамеренного умысла представляет собой одну из главных проблем, препятствующих выработке универсальных характеристик злоупотребления правом. Кроме того, отсутствует возможность унифицированного подхода к определению этого явления во всех правовых отраслях, в частности, в гражданско-правовых и смежных с ними сферах. Дополнительную сложность создаёт сам подход российского законодателя, приравнивающий поведение, предельно приближенное к противоправному, к злоупотреблению правом, тем самым сближая его с недобросовестным поведением, подлежащим публичному осуждению.
Можно отметить еще одну проблему понимания злоупотребления правом. Как указывает в своем блоге юрист М. Кузиков, понятия «злоупотребление правом», как многие полагают, вообще не было в римском праве, о чем свидетельствует отсутствие в дигестах слов типа abusus («злоупотребление»). Ф. Дыдын-ский, например, переводит слова male enim nostro iure uti non debemus как «мы не должны злоупотреблять предоставленным нам правом» [15]. В учебнике И.Б. Новицкого находим более точный вариант: «мы не должны дурно пользоваться своим правом» [34]. Подобных разночтений оказывается достаточно, чтобы возникла путаница [27]. Более того, в римском праве речь шла в большей степени, судя по переводам дигестов, о злоупотреблении полномочиями.
На наш взгляд, злоупотребление полномочиями является более точным и полностью охватывающим состав такого деяния, как злоупотребление определенными преимуществами, в результате чего производится вред интересам других конкретных лиц или неопределенному кругу лиц. При этом необходимо отграничивать злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и собственно злоупотребление гражданским правом (ст. 10 ГК РФ), о чем свидетельствует, например, решение ВАС РФ от 16.04.2012 № ВАС-1113/12.
Применение понятия «злоупотребление правом» в судебных решениях позволяет говорить о том, что ситуации, когда «субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность» (определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2015 № 32-КГ14-17); лицо «реализует принадлежащее ему право недозволенным образом» (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2016 № 52-КГ16-4); «в случае наступления любых негативных последствий, явившихся прямым или косвенным результатом осуществления этого права лицом» (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2016 № 52-КГ16-4); в результате которых «другая сторона не могла реализовать свои права» (Постановление Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 № 17388/12 по делу № А60-49183/2011) – всё это случаи злоупотребления правом.
Таким образом, критерии, которые определяют границы осуществления этого права, четко указаны в приведенной судебной практике: лицо поступает вопреки норме; не соотносит поведение с интересами других лиц и общества; не исполняет юридическую обязанность, которая корреспондирована лицу указанной нормой, а также прямо или косвенно реализует право недозволенным способом, что приводит к негативным последствиям, в том числе к невозможности другой стороне реализовать свои права.
Выводы
В ходе исследования были выделены предпосылки для пересмотра понимания сущности и установления ответственности за злоупотребление правом:
-
• сложность определения злонамеренного
умысла;
-
• невозможность унифицировать понятия для всех сфер гражданско-правовых и смежных с ними правоотношений;
-
• отнесение российским законодательством злоупотребление поведением к неправомерному и недобросовестному, то есть порицаемому;
-
• возможная подмена понятий в злоупотреблении правом.
Исходя из выявленных предпосылок, предлагается дифференцировать злоупотребление правом на злоупотребление полномочиями, что является уголовно наказуемым деянием, и собственно злоупотребление субъективным правом. Если в отношении злоупотребления полномочиями законодательство и судебная практика дают понятные рекомендации, то в отношении злоупотребления субъективным правом у лица должно быть право, которое ему предоставлено специальной нормой законодательства.
Иными словами, злоупотребление субъективным правом – это прямое или косвенное нарушение установленных границ реализации предоставленного законодательством права с причинением вреда интересам, правам других лиц, общества или государства. При этом негативные последствия могут быть и не описаны в законодательстве, поскольку невозможно предусмотреть все виды последствий злоупотребления субъективным правом.
Злоупотребление субъективным правом следует отграничивать от неправомерного поведения, поскольку в первом случае речь идет о наделении лица специальным правом в силу каких-либо обстоятельств, отличных от общих прав всех граждан. Стоит отграничивать злоупотребление и от правомерного поведения в силу некоторой индивидуальности права, которое предоставлено лицу в отличие от общих норм, также закрепленных в законодательстве, однако являющихся общими для всех. Безусловно, злоупотребление субъективным правом отграничивается и от противоправного поведения в силу того, что результаты не всегда являются общественно опасными. В случае если деяние лица приведет к непредвиденному результату в виде общественно опасного последствия, злоупотребление субъективным правом перейдет в категорию противоправного деяния.