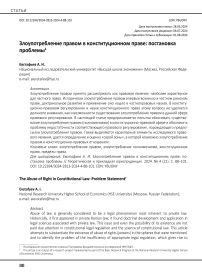Злоупотребление правом в конституционном праве: постановка проблемы
Автор: Евстафьев А.И.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (22), 2024 года.
Бесплатный доступ
Злоупотребление правом принято рассматривать как правовое явление, наиболее характерное для частного права. Исторически злоупотребление правом впервые возникло в частном римском праве, доктринальное развитие и применение оно нашло в частноправовых науках. В конституционно-правовом регулировании и науке конституционного права этому вопросу не уделяется должного внимания, как и возможности существования злоупотребления правом в данной сфере правового регулирования. В настоящей статье предпринимается попытка обосновать существование злоупотребления правом (полномочиями) в конституционно-правовой сфере и обозначить проблему недостаточности соответствующего правового регулирования, порождающего предпосылки злоупотребления правом. Также выделяются характерные элементы исследуемого правового явления, дается определение и оценка «серой зоны», в которой возможно злоупотребление правом в конституционно-правовых отношениях.
Злоупотребление правом, злоупотребление полномочиями, конституционное право, пределы права
Короткий адрес: https://sciup.org/14132363
IDR: 14132363 | DOI: 10.22394/3034-2813-2024-4-88-101
Текст научной статьи Злоупотребление правом в конституционном праве: постановка проблемы
Определение правового явления «злоупотребление правом»
Под злоупотреблением правом, по мнению В. П. Грибанова, необходимо понимать «особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»3. В понимании автора «субъективное право представляет собой некий предусмотренный законом общий тип поведения, а его осуществление происходит в различных конкретных формах»4, при этом общий тип поведения и конкретная форма есть «соотношение общего и конкретного»5.
Подход, предложенный В. П. Грибановым, стал одним из основополагающих и, как отмечает С. Д. Радченко6, нашел выражение как в судебной практике, так и в законодательстве, но между тем был подвергнут и обоснованной критике, вызванной сложностью практической реализации7.
Другое определение исследуемого феномена основывается на такой категории, как интерес, что вполне обоснованно, ведь реализация любого права — это есть реализация воли субъектом, обусловленной определенным интересом. А. И. Экимов отмечал, что «субъективное право, использованное во вред обществу, по существу изменяет свой социальный смысл. Фактором, приводящим его в действие, становится узкокорыстный, эгоистический интерес, отрицающий правомерность существования всякого иного интереса»8. С позицией А. И. Экимова сложно не согласиться: действительно, интерес есть некоторое стремление субъекта к какому-либо результату, и в зависимости от характера интереса формируется и соответствующий конечный результат реализации права. С учетом этой позиции С. Д. Радченко определил злоупотребление правом как «осуществление принадлежащего управомоченному лицу права в противоречии с имеющимся у данного лица признанным законом интересом в его осуществлении»9.
«Теория интереса» имеет несколько направлений, дополняющих указанный подход. Например, существует позиция, предполагающая наличие, кроме противоречащего закону интереса, дополнительного критерия в виде причинения вреда10 и др. Следует отметить, что категория интереса при исследовании злоупотребления правом имеет немаловажное значение.
Другая точка зрения относительно определения злоупотребления правом основана на категории «добросовестность». По мнению И. Б. Новицкого, злоупотребление правом представляет собой реализацию субъективных прав в противоречии с добросовестностью, то есть в противоречии с добрыми намерениями11. И. Б. Новицкий пришел к выводу о том, что добросовестность в субъективном смысле подразумевает под собой определенное сознание субъекта правоотношений как некое неведение тех или иных обстоятельств, а объективная добросовестность — это внешнее мерило, которое должно приниматься во внимание законом, судом и участниками гражданского оборота12. В рамках обозначенной теории следует отметить, что добросовестность действительно является антиподом по отношению к исследуемому правовому явлению, что подтверждается, в частности, Г. А. Гаджиевым13 и может, на наш взгляд, выступать в роли «ориентира нормального правопользования». Примечательно, что и в п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) при перечислении форм злоупотребления правом, оставляя перечень открытым, законодатель указал: «а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав»14.
Интересна позиция к определению правового явления А. А. Малиновского, который считает, что злоупотребление правом — это «…форма осуществления субъективного права в противоречии с его назначением, посредством которого субъект причиняет вред другим участникам общественных отношений»15. В указанном подходе важно отметить понимание категории «назначение» автором: «Если субъект достигает поставленной цели при помощи использования другого средства (реализует потребность, для удовлетворения которой предусмотрено одно субъективное право посредством осуществления другого субъективного права), то он осуществляет субъективное право в противоречии с его назначением»16, то есть А. А. Малиновский рассматривает злоупотребление правом через ненадлежащее средство для достижения цели.
Довольно широкое определение понятию «злоупотребление правом» дает А. В. Волков, который понимает под ним «особый вид гражданского правонарушения, связанного с умышленным выходом управомоченного лица за внутренние пределы (смысл, назначение) субъективного гражданского права (определяемые в том числе критериями разумности и добросовестности) для достижения своей незаконной скрытой цели с использованием юридического формализма гражданского права, как то:пробе-лы, оговорки, недостатки, узость, противоречия правовых норм и договорных условий»17.
Вариативность подходов к определению свидетельствует об отсутствии общей точки зрения в отношении правового феномена, что сказывается и на правоприменительной практике. В частности, Верховный Суд Российской Федерации определяет злоупотребление правом: исходя из интереса субъекта права18, исходя из пределов осуществления права19, исходя из последствий реализации права20 и др.
При этом анализ понятия «злоупотребление правом» строится вокруг его оценки в частном праве. Такое развитие правового явления закономерно вызывает вопрос о применимости изложенных подходов в других отраслях права.
Исходя из изложенного, можно увидеть, что характеризующими категориями для определения факта злоупотребления правом выступают: а) назначение и цель права; б) признанный законом интерес в осуществлении права; в) добросовестность.
На наш взгляд, ключевой для исследуемого правового явления выступает категория «цель». Под целью в праве надлежит понимать «идеальный, желательный результат, ради которого осуществляется юридическая деятельность»21. При этом «следует различать виды правовых целей: цели в праве, которые создаются правотворцем, закрепляются в нормах права и обоснованы абстрактным пониманием общего блага, и цели субъектов права, формируемые ими самими, связанные с их потребностями и интересами, те цели, на достижение которых субъекты права рассчитывают при совершении юридически значимых действий»22.
По нашему мнению, злоупотребление правом происходит в том случае, когда цели, с которыми тот или иной управомоченный субъект реализует свое право, вступают в противоречие с целями, заложенными законодателем в правовую норму . Известным доктринальным примером, демонстрирующим изложенное, является строительство одним из собственников земельного участка забора на границе двух участков значительной высоты. Понятно, что соответствующее право дано собственнику с целью обеспечения защиты, неприкосновенности собственности, однако фактически, исходя из значительной высоты забора, можно сделать вывод об иной, злонамеренной цели собственника — например, затенить растения, находящиеся на земельном участке соседа23.
Кроме цели, немаловажным выступает интерес субъекта в реализации права. По мнению С. В. Михайлова, интерес «представляет собой потребность, присущую человеку как социальному субъекту, то есть потребность, имеющую социальный характер. Такая потребность выступает в качестве интереса»24. На основе интереса у управомоченного субъекта формируется конкретная цель реализации того или иного права.
-
В. Ю. Панченко в своей работе указывает, что цель реализации права «поглощает» интерес25, и в этом смысле, на наш взгляд, цель выступает, как правило, некоторой квинтэссенцией интереса, хотя интерес — «это не только этап целеполагания, но и самостоятельное правовое явление, имеющее юридическое значение для правового взаимодействия»26.
Однако можно ли, определив соответствующее противоречие двух видов целей, квалифицировать поведение уполномоченного субъекта в качестве злоупотребления? На наш взгляд, это сделать довольно сложно. Ведь расхождение указанных целей может происходить и вследствие неправильно избранных субъектом прав как средств для достижения определенных целей.
По этой причине следующим элементом, необходимым для квалификации поведения в качестве злоупотребления правом, выступает наличие негативного последствия в виде неправомерного воздействия на права, свободы и интересы третьих лиц. Подобное воздействие может выражаться, например, в ущемлении прав, нарушении баланса интересов. Важно отметить, что такое последствие необязательно должно являться целью злоупотребляющего субъекта, однако его присутствие указывает на противоправность соответствующей цели.
Таким образом, злоупотребление правом — это есть реализация права, где действия субъекта противоречат и/или частично отклоняются от цели, заложенной законодателем в данной норме права, и влекут негативное противоправное воздействие на права, свободы и интересы третьих лиц.
О «серой зоне» в реализации права
Исходя из того, что правовое поведение принято делить на правомерное и неправомерное, возникает вполне закономерный вопрос — каким же в этой системе координат выступает злоупотребление правом? В каких границах оно существует?
Как нам представляется, для ответа на указанные вопросы важно ввести в настоящее исследование такую категорию, как «серая зона», — это область возможной реализации права, находящаяся в определенных границах, где существует вероятность осуществить злоупотребление правом.
По мнению В. П. Грибанова, субъект, злоупотребляя правом, использует недозволенные формы и выходит за пределы осуществления права27. Пределы осуществления права в представлении В. П. Грибанова — это содержание права, очерченное временем, способом осуществления права, социальным назначением права и др.28
Можно сказать, что пределы осуществления права всегда находятся в пределах содержания права (таких пределах, выход за которые трансформирует правомерное поведение в неправомерное). При этом существование пределов осуществления и их последующее соблюдение — это гарантия существования экономического равенства субъектов, а выход за них — нарушение соответствующего равновесия. Важно отметить, что в числе ключевых критериев «злоупотребления правом» автор обозначает использование права «во зло»29, то есть когда «…право используется управомоченным лицом в ущерб интересам общества и отдельных его членов»30.
-
В. В. Пашин справедливо указывает на сложность практического применения подхода В. П. Грибанова, вызванную отсутствием четких критериев разграничения пределов содержания права и пределов осуществления права31. С указанным сложно не согласиться — выход за отдельные элементы, формирующие пределы осуществления права, не всегда будет являться злоупотреблением.
-
Н. С. Малеин отмечал, что «если субъект действует в границах принадлежащего ему права — и тогда он не злоупотребляет своим правом, или он выходит за пределы, установленные законом, и таким образом… совершает элементарное правонарушение»32. На наш взгляд, позиция Н. С. Малеина строится на отрицании существования пределов осуществления права и исходит из деления правового поведения на правомерное и неправомерное. Исключая возможность злоупотребления правом, Н. С. Малеин исключает возможность противостояния недобросовестной реализации права со стороны законодателя и правоприменительных органов, ибо исходно злоупотребление не обличено в правонарушение, а выступает внешне реализацией прав, не нарушающей установленных запретов.
Однако такой научный феномен, как «пределы осуществления права», может вполне уместно объяснить положение злоупотребления правом в конструкте реализации права. В сущности, оно не является типичным правонарушением, то есть не выходит за границы содержания представленного лицу права, но между тем и не является поведением правомерным.
В этой связи можно обозначить, что злоупотребление правом находится в пределах содержания права, но за пределами осуществления права.
Обозначенные пределы образуют «серую зону», где акт реализации права пребывает между границами формально правомерного (конкретные действия в этой плоскости не запрещены) и неправомерного поведения, иначе говоря — право реализуется в соответствии с буквой закона, но в противоречии с его духом. В этом заключается некоторая уникальность правового явления — как верно заметил А. А. Малиновский, злоупотребление правом нельзя относить к категории «правомерное – неправомерное», оно нуждается в «третьем измерении»33.
Выведение злоупотребления правом в «третье измерение» тоже, на наш взгляд, является условным. Можно заметить, что если в отраслевом законодательстве существует запрет на злоупотребление правом, а также установлена ответственность, то вполне логично сделать вывод о том, что злоупотребление — особое правонарушение, поскольку в этом свете установленный факт злоупотребления является выходом за пределы содержания права (происходит нарушение запрета).
Важной особенностью такого вида правонарушения (злоупотребление правом признается таким лишь только в том случае, если в отраслевом законодательстве установлен запрет) выступает то обстоятельство, что о правонарушении злоупотребляющее лицо узнает лишь постфактум, исходя из решения суда. Отдельные авторы такое обстоятельство рассматривают в качестве основания для недопущения существования «злоупотребления правом». Например, И. А. Покровский считал, что поиск тонкой грани между злоупотреблением правом и деликтом нарушает прочность права и порождает весьма большую область для усмотрения правоприменителям при квалификации поведения субъекта в качестве соответ- ствующего, и в связи с чем полагал недопустимым существование данного правового явления34. Такая позиция, на наш взгляд, является весьма спорной.
Таким образом, злоупотребление правом выступает уникальным правовым явлением, поскольку одновременно входит в пределы содержания права, но при этом не включается в более узкую категорию — пределы осуществления права.
Важно отметить, что нарушение границы содержания права соотносимо с моментом перехода реализации права в правонарушение. Однако каким образом определить границу осуществления права?
Анализ предложенных подходов к определению правового феномена дает возможность предположить, что одним из ключевых факторов, формирующих «оплот» правового, добросовестного поведения, является цель, заложенная законодателем при закреплении правовой нормы.
О существовании злоупотребления правом («серой зоны») в конституционно-правовых отношениях
Злоупотребление правом в конституционно-правовых отношениях существует в действительности. Оно находит свое отражение как в судебной практике, так и в немногочисленных положениях отдельных нормативно-правовых актов. Между тем понятие «злоупотребление правом» не имеет достаточной доктринальной разработки в конституционном праве. Хотя активное развитие общественных отношений требует глубокого научного анализа этой категории.
Конституционно-правовое регулирование запрета на злоупотребление правом в России имеет свою правовую основу.
Во-первых, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ запрещает реализацию прав и свобод в нарушение прав и свобод других лиц. Указанная норма выступает «золотым правилом нравственности»35, а также лежит в основе развития запрета злоупотребления правом в частном праве, закрепленного в ст. 10 ГК РФ.
Во-вторых, ст. 52 Конституции РФ закрепляет, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.
В-третьих, согласно ст. 18 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Иначе говоря, государство в лице любых властных органов и должностных лиц при реализации своих полномочий обязано руководствоваться интересами обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. С. Е. Тюрин полагает, что в основе указанной нормы Конституции РФ лежит противодействие такому виду злоупотребления правом, как «действия властных субъектов по реализации своих дискреционных полномочий в пределах буквальных предписаний права, но с нарушением внутренних пределов усмотрения в виде публичного интереса, совершаемые из корыстных мотивов в состоянии конфликта интересов и наносящие вред обществу»36. Такой подход, на наш взгляд, нельзя назвать полным, потому что корыстные мотивы не всегда могут выступать в числе обязательных признаков, однако в остальной части с С. Е. Тюриным сложно не согласиться.
Как отмечает Н. С. Бондарь, из положений указанной статьи вытекает и вывод о том, что «законодатель не вправе принимать решений, способствующих злоупотреблению правом, и, во всяком случае, должен стремиться к тому, чтобы свести возможности для злоупотребления к минимуму»37.
Указанные положения Конституции РФ получили различное продолжение в отраслевых законодательных актах.
Особое развитие рассматриваемое правовое явление получило в гражданском праве. ГК РФ с учетом редакции 2012 г. подробно описывает исследуемый феномен. В ст. 10 ГК РФ отражены последствия и формы злоупотребления правом. Вследствие изложенного правовое явление часто применяется в судебной практике и становится объектом исследования ученых-цивилистов.
Существование возможности злоупотребления правом в частноправовом регулировании надлежит связывать с тем, что для частного права характерен диспозитивный метод, суть которого заключается в наличии свободы выбора варианта поведения в гражданско-правовом обороте, а также равенстве в объеме правомочий. Наделение такой широтой выбора для субъектов частного права выступает необходимостью, обусловленной сущностью частноправовых отношений. Между тем широкое усмотрение для субъектов одновременно влечет необходимость в установлении пределов осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ)38. Указанные пределы позволяют сдерживать баланс частных интересов, то есть обеспечивать равенство сторон.
Как уже было отмечено, в конституционно-правовом регулировании злоупотребление правом серьезного развития не получило. Однако исследуемое правовое явление в указанной сфере имеет куда более серьезное значение, поскольку в результате злоупотребления урон причиняется не частным, а общественным интересам. Как верно отмечает А. Шайо, «учитывая, что конституционное право связано с монополией на власть par excellence, было бы совершенно естественным и необходимым, чтобы оно было вооружено теорией злоупотребления правами»39.
Соответствующая сфера правового регулирования не содержит положений, аналогичных положениям ст. 10 ГК РФ, то есть таких положений, которые могли бы универсальным образом устанавливать пределы осуществления права. Для конституционно-правового регулирования характерно точечное закрепление последствий и запретов на отдельные виды злоупотребления правом.
В таких условиях правого регулирования суды, рассматривая споры, вытекающие из публично-правовых отношений, вынуждены обращаться к положениям ст. 10 ГК РФ. Об этом пишет К. А. Сасов, применительно к злоупотреблению правом в налоговых правоотношениях, отмечая, что появившаяся в 2017 г. ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающая пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и/или суммы налога, сбора, страховых взносов, требует переориентации на «хорошо зарекомендовавшую себя ст. 10 ГК РФ»40. Полагаем позицию К. А. Сасова весьма важной. Действительно, частноправовое регулирование может выступать успешным примером реализации запрета на злоупотребление правом, что, несомненно, должно учитываться при регулировании соответствующего запрета в публичных отраслях права.
Правоотношения в конституционно-правовой отрасли имеют немаловажные отличия, которые сказываются на особенностях исследуемого правового явления. Прежде всего, отдельным конституционным правоотношениям присущ характер «власти-подчинения»41 (императивный метод), и, соответственно, возникает такое явление, как злоупотребление полномочиями. Но между тем в конституционном праве присутствует и диспозитивный метод. Граждане наделяются пассивным и активным избирательными правами (ст. 32 Конституции РФ), правом обращаться в государственные и муниципальные органы власти (ст. 33 Конституции РФ) и многими другими правами, которые могут реализовывать по своему усмотрению.
Исходя из указанного, злоупотребление правом в конституционно-правовой сфере можно разделить — на злоупотребление полномочиями (злоупотребление властными субъектами) и злоупотребление правами.
Остановимся на каждом из них отдельно, а также определим предпосылки к возможности злоупотребления правом (полномочиями).
Злоупотребление полномочиями — двоякое явление, поскольку за злоупотребление в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) предусмотрена ответственность (например, ст. 285 УК РФ устанавливает ответственность за злоупотребление должностными полномочиями), но между тем, по нашему мнению, существуют и иные злоупотребления полномочиями, которые не являются уголовно-наказуемыми и о которых идет речь в настоящей статье. В целях их разграничения рассмотрим одну из статей УК РФ.
Согласно ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями — это использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Важно отметить, что изложенные положения УК РФ в полной мере подтверждают ориентирующий характер интереса в реализации права (полномочий) в целях определения факта злоупотребления правом (полномочием).
Как известно, состав преступления, предусмотренного статьей УК РФ, возникает при наличии в деянии всей совокупности объективных и субъективных признаков, закрепленных в соответствующей статье УК РФ.
Детальное рассмотрение ст. 285 УК РФ указывает на необходимость установления: использования служебного положения вопреки интересам службы, наличия корыстной или иной личной заинтересованности, существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Все указанные элементы подробно раскрыты в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ42, и можно заключить, что указанная норма УК РФ направлена на действия, обладающие особой общественной опасностью.
Статья 285 УК РФ не является единственной устанавливающей ответственность за злоупотребление полномочиями. К числу таковых относятся также статьи УК РФ, устанавливающие ответственность за преступления коррупционного характера, и др.
По нашему мнению, злоупотребления полномочиями, за которые не предусмотрена уголовная ответственность, затрагивают другие, «менее опасные» действия властвующих субъектов.
Меньшая опасность таких злоупотреблений заключается в том, что таковые не предполагают существенного нарушения прав граждан или организаций и могут выражаться, например, в неэффективной работе государственного аппарата, в частности, в принятии властвующим субъектом (при вариативности) менее эффективного и справедливого решения, чем можно бы было принять. Такое решение может быть вызвано желанием создания отдельным субъектом каких-либо неблагоприятных обстоятельств для другого субъекта либо нежеланием властвующего субъекта эффективно исполнять свои полномочия.
К таким действиям властвующих субъектов, в частности, можно отнести волокиту и формализм — случай, когда властвующий субъект осуществляет свои полномочия не в полном соответствии с интересами общества. Важно отметить, что проблема формализма со стороны органов публичной власти была отмечена и Верховным Судом Российской Федерации, который указал, что «органам публичной власти, их должностным лицам запрещается обременять физических или юридических лиц обязанностями, отказывать в предоставлении им какого-либо права лишь с целью удовлетворения формальных требований, если соответствующее решение, действие может быть принято, совершено без их соблюдения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом»43.
Приведем гипотетический пример волокиты со стороны органов публичной власти. Статьей 12 Федерального закона № 59-ФЗ устанавливаются сроки для рассмотрения обращений граждан:
по общему правилу срок рассмотрения обращения составляет 30 дней, но в исключительных случаях, а также в случае направления запроса срок рассмотрения обращения может быть продлен дополнительно на 30 дней. Между тем для лиц, обращающихся в органы публичной власти с тем или иным вопросом, оперативность реакции органа является ключевой в решении их проблемы. На практике органы власти зачастую рассматривают обращения не менее 30 дней. Кроме того, Федеральный закон № 59-ФЗ не поясняет, что входит в число исключительных случаев, дающих право увеличить срок рассмотрения обращения, что, как следствие, дает возможность большой дискреции для должностных лиц и создания «волокиты». Указанное может происходить по различным причинам — как в силу загруженности ответственных лиц, так и в силу ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. Д. Е. Зайков применительно к ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ отметил, что «наличие в ней неоднозначного правового регулирования и использование оценочных категорий нередко приводит к результатам, не соответствующим ожиданию»44, что, на наш взгляд, применимо и к указанному случаю.
Как уже было отмечено, злоупотребление в исследуемой области возможно не только со стороны властвующего субъекта, но и со стороны граждан. Такие злоупотребления в конституционно-правовых отношениях разнообразны. Они встречаются в сфере проведения публичных мероприятий, при направлении обращений в органы публичной власти и множестве других.
Одной из наиболее «насыщенных» сфер злоупотребления правом стоит отметить институт избирательных кампаний. Злоупотребление правом в избирательных правоотношениях, как верно отметил И. В. Советников, осуществляется путем использования политических технологий45. Среди них можно выделить технологию «технический кандидат». Это такой случай, когда какое-либо лицо реализует пассивное право и приобретает статус кандидата не с целью избрания в состав представительного или законодательного органа и представления интересов избирателей, а с целью осуществления каких-либо девиантных форм политических технологий в интересах другого — «основного кандидата», например написания жалоб на кандидата-конкурента и др. Такую технологию используют, чтобы исключить как репутационные, так и правовые риски для «основного кандидата».
Таким образом, злоупотребление в конституционно-правовых отношениях возможно со стороны как должностных лиц и органов публичной власти, так и граждан. Между тем возникает вопрос о предпосылках такого поведения, формирующих «серую зону» в условиях конституционно-правового регулирования.
На наш взгляд, одной из таковых является применение диспозитивного метода в конституционноправовом регулировании. Как отмечает Р. Г. Валиев, «в системе права в порядке использования законодателем технико-юридической конструкции диспозитивной нормы наряду с частным началом представлено публичное начало диспозитивного метода, которое находит свое реальное выражение в дискреционных полномочиях публичных субъектов»46, но между тем «диспозитивные по своему характеру правовые нормы, адресованные публичным субъектам, отражают объективные процессы модернизации отечественной системы права»47. Особенно заметно проявление диспозитивного метода при волоките и формализме со стороны органов власти, когда у последних появляется возможность выбора поведения. При этом диспозитивный метод встречается и в других сферах, как, например, в избирательном праве, особенно в сфере агитации48.
Отсутствие детальной регламентации как реализации прав гражданами, так и реализации полномочий органами публичной власти является необходимостью и обеспечивает гибкость права, дает возможность адаптироваться праву в условиях многообразия и активного развития общественных отноше- ний. Как верно отмечает А. Шайо, «некоторые основные права содержат в себе свободы, и их нельзя четко определить, поскольку для того, чтобы обеспечить пространство автономного выбора, которое существует в форме фундаментальных прав, необходима некоторая расплывчивость. Именно эти неуверенность и отсутствие четкости и создают интеллектуальную атмосферу, в которой стало возможным современное расширение применения понятия “злоупотребление”»49.
Кроме диспозитивности, способствующей злоупотреблению правом, но действующей без очерченных законодателем пределов, немаловажной предпосылкой является присутствие в конституционноправовом регулировании законодательных пробелов.
Яркий пример тому — ситуация с Б. Л. Вишневским, сложившаяся во время избирательной кампании 2021 г. в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Среди кандидатов, выдвинувших себя по избирательному округу совместно с кандидатом — действующим депутатом Б. Л. Вишневским, были выдвинуты еще два Бориса Вишневских, с отличающимися отчествами от отчества Б. Л. Вишневского. Действующая на тот момент редакция Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ50 в ст. 63 предусматривала необходимость указания в бюллетенях для голосования прежних фамилии, имени, отчества только в случае их полного и одновременного совпадения с другими. Тем самым допускалась возможность обхода требования, направленного на недопущение введения избирателей в заблуждение относительно кандидата, представленного в бюллетене. Соответствующий законодательный пробел был устранен только в 2022 г., после окончания избирательной кампании.
Таким образом, наличие законодательных пробелов, а также применение диспозитивного метода в конституционно-правовом регулировании являются предпосылками к злоупотреблению правом, создают условия для его существования, то есть «серую зону».
В этой связи становится очевидным, что недобросовестным действиям различных субъектов права важно противостоять, но между тем отраслевые нормативные акты, как уже отмечалось, содержат лишь точечные запреты на злоупотребление правом. К примеру, в Федеральном законе № 67-ФЗ единственным запретом на злоупотребление правом выступает запрет злоупотребления свободой массовой информации. Как было ранее показано, реализация пассивного избирательного права не ограничивается злоупотреблением правом на средства массовой информации.
В результате отсутствия достаточного правового регулирования злоупотребления в конституционном праве складывается такая ситуация, когда противостояние недобросовестной реализации прав (полномочий) является практически невозможным.
Между тем наличие указанных предпосылок к злоупотреблению должно влечь за собой наличие отраслевых пределов осуществления права, конкретизирующих положения ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. Такие пределы (границы) позволят более точно определить «серую зону» осуществления прав и, как следствие, дадут возможность отграничить злоупотребление правом от нормального правопользования.
Таким образом, в отраслевых законодательных актах необходимо закрепить запрет злоупотребления правом (полномочиями), которым будут установлены пределы осуществления права (полномочия), а также ответственность и последствия злоупотребления. Такой запрет должен быть универсальным, то есть применимым ко всем возможным правоотношениям в соответствующей отрасли права. В качестве предела полагаем уместным использование критерия целевого использования права. Содержательно такой критерий может исходить как от частного случая, то есть недопустимость реализации права с определенной противоправной целью, либо же исходя от общей недопустимости реализации права в противоречии с целью, заложенной законодателем в правовую норму.
Обозначенная проблема характерна не только для конституционного права. Так, в сфере правового регулирования государственного контроля (надзора) и муниципального контроля были закреплены нормы, направленные на противодействие злоупотреблению. Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ51 в ст. 11, именуемой как «Недопустимость злоупотребления правом», установлен запрет на злоупотребление для лиц, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия; для лиц, в отношении которых осуществляется контроль, а также для третьих лиц. Для первых установлен запрет на использование полномочий в целях воспрепятствования законной деятельности контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, для вторых — запрет на использование прав и гарантий, установленных соответствующим федеральным законом, в целях воспрепятствования осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а для третьих — запрет на злоупотребление путем направления обращений в контрольные (надзорные) органы, содержащих заведомо недостоверную информацию о соблюдении контролируемыми лицами обязательных требований.
Анализ положений указанной статьи подтверждает тезис, изложенный в начале статьи, об ориентирующем характере цели права. Как следует из указанной нормы, реализация полномочий и прав в целях, отличающихся от целей, закрепленных в Федеральном законе № 248-ФЗ, признается злоупотреблением.
В 2022 г. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 33652 был объявлен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, за исключением отдельных. Этот мораторий неоднократно продлевался и частично сохранил свое действие до 2030 г. В связи с изложенным возможность исследования практики применения ст. 11 Федерального закона № 248-ФЗ практически исключена. Однако сам факт включения соответствующей нормы в Федеральный закон № 248-ФЗ свидетельствует о значимости правового явления в практической плоскости.
Заключение
Правовая категория «злоупотребление правом» не имеет однозначного подхода к определению ее сущности и основных характеристик. Она трактуется посредством использования различных понятий: интереса, назначения и цели права, добросовестности. Отсутствие общего подхода влечет отсутствие единых критериев для отнесения того или иного действия к числу злоупотреблений. Исследование судебной практики также подтверждает обозначенную неопределенность, но уже на уровне правоприменения.
Все доктринальные исследования злоупотребления правом строятся исключительно в рамках частного права, что вызывает закономерный вопрос о возможности их применения при исследовании правового явления в конституционном праве.
Важным фактором существования злоупотребления правом в частноправовой отрасли является действие диспозитивного метода правового регулирования, обусловливающего формирование «серой зоны» для злоупотребления правом. В рамках конституционного права злоупотребление правом тоже во многом связано с использованием метода диспозитивности, а также наличием законодательных пробелов в регулировании общественных отношений. Указанные факторы создают возможность существования злоупотребления правом и полномочиями в конституционном праве.
В этой связи требуется более определенное закрепление пределов осуществления права (полномочия) в конституционном праве. Указанное позволит определить «серую зону» и предоставит возможность противодействия недобросовестному поведению субъектов.
Список литературы Злоупотребление правом в конституционном праве: постановка проблемы
- Бондарь Н. С. Решения Конституционного Суда как мера свободы и ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 10. С. 2-5. EDN: KXZHOZ
- Бурмистрова С. А. О применении категории добросовестности при разрешении коллизий интересов // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 135-143. EDN: ETOAPT
- Валиев Р. Г. О статусе диспозитивного начала в механизме публично-правового регулирования // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153, № 4. С. 2229. EDN: OJYPGL
- Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. Автореф. дис.... д-ра юрид. наук / Волков Александр Викторович. Москва, 2010. 53 с. EDN: ZOCHNN
- Гаджиев Г. А. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными правами // Государство и право. 2002. № 7. С. 54-62.
- Гордеев П. А. Диспозитивность в регулировании гражданских правоотношений: теоретико-методологический анализ // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 4 (106). С. 7986. EDN: VMWCXO
- Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. 410 с.
- Зайков Д. Е. Недопустимые обращения граждан: проблемы квалификации и правоприменительной практики // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 8 (105). С. 68-74. EDN: JHZNGS
- Иоффе О. С. Пределы осуществления субъективных гражданских прав / О. С. Иоффе, В. П. Грибанов // Советское государство и право. 1964. № 7. С. 76-85.
- Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость. М.: Манускрипт, 1992. 204 с.
- Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом: (теоретико-правовое исследование). М.: Юрлитинформ, 2007. 350 с. EDN: QXJRGN
- Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект / 3-е издание, перераб. и доп. Sarbruken: LAP LAMBERT, 2012. 363 с. EDN: QZEKEZ
- Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.: Статут, 2002. 205 с.
- Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. Т. 6. С. 124-181.
- Панченко В. Ю. К вопросу о соотношении интересов и целей в правовом взаимодействии // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. 2014. № 1. С. 89-99. EDN: TFKRAD
- Пашин В. М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda // Актуальные проблемы гражданского права. М.: Норма, 2003. С. 28-62.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. 349 с.
- Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России: дисс.... канд. юрид. наук / Радченко Сергей Дмитриевич. Москва, 2007. 202 с. EDN QDYNZD
- Сасов К. А. Какой должна быть общая норма о налоговых злоупотреблениях // Закон. 2021. № 8. С. 102-106. EDN: MPWECX
- Советников И. В. Злоупотребления правом в избирательном процессе: автореф. дисс.... канд. юрид. наук / Советников Иван Васильевич. Москва, 2006. 26 с. EDN: NKGLMR
- Турищева Н. Ю. Публично-правовое и частноправовое начала регулирования предвыборной агитации // Журнал российского права. 2020. № 1. С. 89-100. DOI: 10.12737/jrl.2020.006. EDN: QESJZG
- Тюрин С. Е. Понятие публично-правового злоупотребления (злоупотребления властью) / С. Е. Тюрин // Конституционное и муниципальное право. 2021. № 9. С. 8-11. DOI: 10.18572/1812-37672021-9-8-11. EDN: KNXZYR
- Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке частного права / С. Ю. Филиппова. М.: Статут, 2013. 347 с.
- Шайо А. Злоупотребление основными правами, или Парадоксы преднамеренности // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2(63). С. 162-182. EDN: NTOYQN
- Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе / А. И. Экимов. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1984. 134 с.