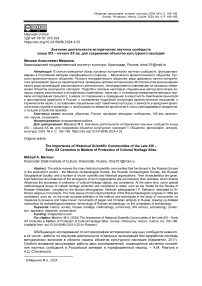Значение деятельности исторических научных сообществ конца XIX - начала XX вв. для сохранения объектов культурного наследия
Автор: Меринов М.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится обзор основных исторических научных сообществ, функционировавших в Российский империи пореформенного периода, - Московского археологического общества, Русского археологического общества, Русского географического общества, ряда церковных научно-исторических организаций. Дана их характеристика, приведены краткие исторические обстоятельства возникновения такого рода организаций, рассмотрена их деятельность, непосредственно повлиявшая на процессы сбережения объектов культурного наследия. Подробно описаны некоторые специальные методологические вопросы охраны религиозных и исторических памятников, такие как: о точнейшем определении метода и приёмов исследования прошлого; о мерах по сохранению и приведению в известность памятников языческой и христианской древности в России; о составлении подробной инструкции археологических изысканий; о терминологии науки; о составлении специальных карт памятников культуры; о важности учреждения археологических музеев в провинции; о необходимости введения археологии в число преподаваемых предметов; о лучшем устройстве архивов.
История, общество, Россия, наследие, методика, сообщество, xix век, археология, охрана, сохранение
Короткий адрес: https://sciup.org/149145367
IDR: 149145367 | УДК: 94“18/19”:316.354 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.25
Текст научной статьи Значение деятельности исторических научных сообществ конца XIX - начала XX вв. для сохранения объектов культурного наследия
Первый из названных приводит данные о 120 обществах, которые существовали в России до 1917 г. Он отмечает, что после 1861 г. количество подобных структур росло увеличивалось на 15 в год, а после 1905 г. резко выросло до 40, включавших в себя преимущественно историков – любителей и профессионалов1.
А.Д. Степанский не согласен с такой позицией коллеги как не отражающей многообразие и специфику исторических обществ. Он предложил различать общества, занимающиеся историей (они преобладали в классификации А.М. Разгона), и те, главной функцией которых являлась научно-исследовательская работа в области истории. То есть речь идёт о научно-исторических обществах, которых в его перечне до 1917 г. было 71, при этом, как отмечает исследователь, с 1863 по 1904 гг. возникло 35 обществ, а с 1905 по 1917 гг. – 26. Их организационное устройство и деятельность регламентировались уставами, которые до 1863 г. утверждались императором, а после до 1906 г. – министром народного просвещения, с 1906 г. же подобные документы регистрировались губернскими комиссиями. По специфике деятельности А.Д. Степанский общества разграничивал на универсальные (общеисторические) и специализированные. Первые состояли при высших учебных заведениях, вторые – с вузами связаны не были и занимались разработкой отдельных вопросов (Степанский, 1975).
Следует отметить, что эффективность работы научных сообществ во многом зависела от их материального положения. В основе своей бюджеты таких организаций формировались за счёт членских взносов, реализации издаваемых трудов и пожертвований частных лиц. Некоторые получали субсидии и финансировались из бюджета.
Из специализированных обществ исследуемой нами проблемой занимались всероссийские археологические общества: Русское археологическое общество (РАО), возникшее в 1846 г. как Археолого-нумизматическое общество, а в РАО преобразованное в 1866 г.; Московское археологическое общество (МАО, 1864). Археология являлась основным направлением деятельности и созданного в 1839 г. Одесского общества истории и древностей. Оно одним из первых занималось учётом и охраной исторических памятников, в том числе путём создания музеев. В своей деятельности общество опиралось на методические рекомендации И.А. Стемпковского по выявлению, учёту, регистрации, изучению недвижимого и движимого культурного наследия2. Значительные территории бывших Булгарского и Хазарского царств, Казанского и Астраханского ханств, а также Сибири и Средней Азии охватывало своей работой Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878 г.).
Следует отметить, что в XIX в. термины «археологический» и «археология» обозначали науку о вещественных памятниках, то есть о материальной культуре. Поэтому указанные общества внесли большой вклад в сохранение недвижимых памятников истории и культуры.
Несмотря на естественно-научный характер Российского географического общества (РГО), созданного в 1845 г., оно через свои отделы этнографии и исторической географии также занималось вопросами охраны памятников. И что очень важно – в отдалённых районах России. Его отделения работали в Сибири и на Кавказе. Ещё в 1847 г. оно подготовило и разослало в губернии программу по собиранию этнографических сведений и получило в течение пяти лет 2 тыс. ответов, составивших основу значительного источникового материала в данной области.
Не следует недооценивать также роль губернских учёных и архивных комиссий (ГУАК), активно создававшихся в 1880-х г., в сохранении отечественного письменного документального наследия.
Существовавшие в рассматриваемый период церковные научно-исторические организации, религиозно-археологические общества и комитеты одной из главных своих задач считали охрану материальных (архитектурных, вещественных, письменных) и нематериальных памятников. До 1917 г. их было 52, большинство из которых (45) возникло в 1893–1916 гг. В 1914 г. была создана Всероссийская архивно-археологическая комиссия при Синоде.
С 1870-х гг. началось создание религиозных музеев. На 1912 г. их насчитывалось около 50. Они сохранили значительный материал по движимым религиозным вещественным памятникам и копии монументальной живописи церковного зодчества (Алексеева, Горбатов, 2018).
Вопросы охраны архитектурных памятников, включая образцы монументальной экстерьерной и интерьерной живописи, иконостасов, были в центре внимания архитектурных обществ. Среди них выделялись: Московское архитектурное общество (1867), Петербургское общество архитекторов (1872), при котором работала Комиссия по исследованию архитектурных памятников, с 1892 г. инициировавшая проведение съездов русских зодчих, приоритетно рассматривавших теоретические и практические вопросы охраны памятников и их реставрации; Общество архитекторов-художников в Санкт-Петербурге (1903), при котором были созданы: 1) с 1907 г. комиссия против разрушения архитектурных памятников XVIII–XIX вв.; 2) с 1912 г. – реставрационная комиссия; 3) с 1909 г. – музей допетровского искусства и быта. В этом ряду отметим и Комиссию по осмотру и изучению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии (1909 г.), Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины в Петербурге (1909 г.). Из региональных обществ активно себя проявило Киевское общество охраны памятников старины и искусства (1909 г.).
Таким образом, большинство научных сообществ, в том числе непосредственно занимавшихся выявлением, учётом, сохранением и актуализацией историко-культурного наследия, функционировало наряду с обществами, у которых это направление работы не являлось главным, причем и те, и другие образовались в пореформенный период.
Поскольку мы акцентируем внимание на материальных памятниках, прежде всего, недвижимых, остановимся на рассмотрении работы специализированных обществ.
Ещё в марте 1851 г. Русское археологическое общество выпустило составленную известным этнографом, фольклористом, палеографом И.П. Сахаровым «Записку для обозрения русских древностей»1, посвященную православным религиозным памятникам. Их автор был сторонником идеологической формулы «православие – народность – самодержавие» (Полякова, 2008). Императорское Археологическое общество сопроводило документ собственным комментарием, в котором, в частности, отмечалось, что, «желая привести в известность русские древние памятники, находящиеся в городах и селениях, оно обращается к просвещённым соотечественникам и просит их о сообщении археологических известий»2. Общество в этой работе надеялось на сельских священников, настоятелей монастырей и помещиков. Интересовали его русские древности, датируемые по 1700 г. включительно.
Особое место в разработке методических вопросов принадлежит Московскому археологическому обществу (МАО) и инициированным им археологическим съездам. В 1869 г. в столице состоялось открытие первого из них, на котором было признано, что вопрос сохранения памятников древности требует незамедлительного и безотлагательного решения (Богданова, 2017). Отмечалась необходимость составления подробного списка памятников. МАО при этом исходило из того, что подобное действие станет основой для обращения к правительству с предложением взять каждый из входящих в список объектов под охрану3. Представители МАО считали, что для лучшего понимания и оценки исторического и культурного материального наследия необходимо привлечение данных по языку, народным понятиям, поверьям, мифам. Так, А.А. Потапов писал, что «в сказаниях и былинах содержатся описания и термины, относящиеся к архитектуре и к искусствам, которые могут служить значительным дополнением к летописным материалам»4. В 1876 г. в томе IV «Древностей» общества были опубликованы инструкции описания хода и результатов археологических раскопок5. В декабре 1878 г. Д.Я. Самоквасов, исходя из накопившегося опыта, предложил дополнить их рядом практических рекомендаций6.
В IX томе «Древностей» было опубликовано интересное обращение в МАО В.Н. Кашпе-рова, Ю.Н. Мельгунова, Д.А. Столыпина с предложением открыть при организации отделение по изучению русских народных песен с целью их популяризации через издательскую деятельность. Оно обсуждалось 12 мая 1880 г. В просьбе было отказано с аргументацией, что это предмет изучения этнографии7. Хотя отдельные сферы нематериального наследия в трудах отдельных членов МАО все же нашли отражение, учитывая вышеуказанный методический подход.
В X томе «Древностей» были освещены следующие методические вопросы: 1) о составлении археологических карт; 2) о лучшей организации раскопок; 3) о собирании сведений по юридическому быту; 4) о классификации похоронных бытов; 5) о русской номенклатуре греческих географических названий8.
В 1889 г. была разработана и опубликована «Программа для исследования древностей Кавказа»9. В предисловии к ней председатель общества П. Уварова и секретарь В. Трутовский отмечали, что программой охвачены не все виды памятников, но в ней кратко обозначены основные направления и методы работы в отношении недвижимых и движимых древностей1. Брошюра состояла из следующих разделов, охватывающих описание древностей согласно их тематической принадлежности: 1) церкви и монастыри; 2) дольмены; 3) пещеры; 4) палеонтологические кости. Первый раздел был самым крупным и включал в себя требования ответить на 44 вопроса, а также способы и приёмы работы с памятниками. В первую очередь следовало точно указать место расположения, время постройки, форму, размер и имеющие место переделки; определить, во имя какого святого или события, данные памятники были возведены; обозначить источники использованного материала и авторство; определить этнический и религиозный состав населения, периодичность богослужения (п. 1–24). Далее обращалось внимание на экстерьер и интерьер церкви или монастыря, имеющиеся украшения, надписи, фрески, методику их копирования и фотографирования (п. 25–35). Отдельные рекомендации давались по работе с иконами, крестами и рукописями (п. 36). Обращалось внимание на церковные кладбища и на надгробные надписи, которые необходимо было снять калькой, а иные изображения разных сцен жизни предписывалось обмерять и делать с них рисунки. Это касалось мусульманских надписей (п. 41–42). Особенно тщательно следовало исследовать клинописные надписи в армянских областях Кавказа и снимать с них кальки (п. 42). Кроме церквей и монастырей, предписывалось изучать и другие сооружения: замки, башни, стены, караван-сараи, мечети, мосты и др., обмеряя их, описывая, снимая с них рисунки и нанося на карты и планы. Также следовало обращать внимание на древние пути сообщения (п. 43–44)2.
Относительно дольменов, указывалось на важность обстоятельного их описания и исключения непрофессионального подхода к их исследованию3.
Применительно к изучению кавказских пещер ставилась задача выявления их количества, размера, месторасположения, породы камня, доступа, функционального назначения, температуры внутри летом, зимой, наличия воды, а также известковых образований (сталактитов и сталагмитов). Наиболее тщательно следовало изучать пещеры, используемые человеком в качестве жилища4.
В 1884 г. была издана брошюра «К вопросу о составлении легенды для археологической карты России», которая, вместе с вопросником по выявлению и учёту памятников древности была разослана научным сообществам, статистическим комитетам, земским управам и отдельным лицам5.
16 января 1906 г. в отзыве МАО на положения, выраженные Комиссией по пересмотру законодательства об охране исторических памятников6, отмечалось, что выявление, составление описей, классификация, исследование являются делом окружных органов. Вместе с тем подчёркивалось и то, что в условиях нехватки кадров, особенно на местах, последним следует предоставить право привлечения специалистов для научных командировок по собиранию сведений, описанию и обмеру памятников, а также обеспечить финансирование этого (Ахметшин, 2013).
В августе 1908 г. XVI археологический съезд предложил возложить ответственность за регистрацию памятников на научные общества в пределах соответствующих археологических окру-гов7. Данная идея нашла отражение в законопроекте МАО от 1911 г.8 Статья 8 данного документа гласила, что первейшей обязанностью окружных археологических органов должна быть общая регистрация всех наиболее важных недвижимых и движимых памятников, фотографирование, зарисовывание, составление списков и их исследование, а также наблюдение за сохранностью9.
Своё слово в разработке теоретико-методологических вопросов сказали и отдельные учёные. Член МАО И.Е. Забелин являлся одним из представителей теории, в том числе архитектурной, считавших определяющим фактором в истории народа его представления, запечатлённые в быту и культуре. Он был сторонником широкого и систематического изучения памятников, в том числе «собирания строительных украшений, начиная с резьбы ворот, оконных наличников и ставен и т.п. и оканчивая резьбою иконостасов и царских ворот» (Забелин, 2007). В его архитектурной теории относительно гражданского строительства он исходил из того, что истоки последнего лежат в дохристианском быте, то есть речь идёт не о заимствовании, а о самобытности в плане понимания национальных представлений о красоте в архитектуре (Забелин, 2007). Несколько иной была у него и топология памятников. Она включала материальные и нематериальные объекты: монументальные памятники, здания, разного рода сооружения, вещные памятники, памятники письменности, памятники уставного слова, угасшей народной мысли, народных представлений и верований (Кириченко, 1986).
Академия художеств несколько лет предпринимала меры по сохранению памятников старины, в первую очередь церковных. Для этого она ежегодно командировала художников в разные места России. Используя метод художественной фиксации – зарисовки, последние создали значительную коллекцию рисунков (более 500), отражающих русскую, преимущественно церковную архитектуру.
В октябре 1886 г. епархиальным начальствам и губернским статистическим комитетам были разосланы опросные листы с целью выявления сохранившихся художественных памятников старины. Сведения следовало представить в академию не позднее 01 марта 1887 г. К 1888 г. из епархий поступило более 6 тыс. опросных листов с ответами, из которых в список памятников было внесено около 3,5 тыс. (Филюшкин, 2018). Впоследствии Синод удовлетворил ходатайство академии о разрешении заниматься командируемым художникам выявлением и изучением памятников искусств в церквях и монастырях (Богомолов, 2021).
В 1894 г. Н.К. Никольский представил Проект устава Общества церковной археографии и археологии при Санкт-Петербургской духовной академии1, в соответствии с первым параграфом которого выявление, изучение, охрана памятников древней церковной письменности и церковных древностей в целом являлись основным предметом исследований Общества церковной археографии и археологии при Санкт-Петербургской духовной академии, открытого по инициативе Н.В. Покровского 16 мая 1894 г.
Велика роль в деле выявления и регистрации наряду с архивными документами и других памятников старины Губернских учёных архивных комиссий (ГУАК). Много способствовал их созданию директор Петербургского археологического института Н.В. Калачев. Согласно Положению от 13 апреля 1884 г. «Об учреждении Губернских исторических архивов и Учёных архивных комис-сий»2 в качестве эксперимента они создавались в Тверской, Тамбовской, Рязанской и Орловской губерниях. Затем их количество постепенно росло (Музраева и др., 2023) – накануне Первой мировой войны функционировало уже 40 таких комиссий, их задачи расширялись, что требовало изменения нормативной базы для их функционирования. Новый проект положения был принят в апреле 1908 г. на съезде представителей ГУАК.
Согласно первому параграфу имело место расширение полномочий, что нашло отражение и в изменении наименования структур на «Губернские учёные архивно-археологические комиссии». К их обязанностям относились: разбор предназначенных к уничтожению дел и документов в губернских и уездных архивах правительственных, сословных и общественных учреждений различных ведомств с целью сбора материала для хранения в исторических архивах; регистрация, описание, охранение и исследование памятников местной старины и образование местных историко-археологических музеев и библиотек (п. 2). В примечании к параграфу указывалось, что в вопросах раскопок курганов и городищ комиссии руководствуются действующими законами. В соответствии с четвёртым параграфом документа в их арсенале имелись такие методы, как научные экскурсии для осмотра и изучения памятников местной старины и исторических мест, проведение региональных историко-археологических съездов и выставок3.
Если определять основные формы выявления памятников, следует назвать экспедиции, научные командировки, анкетные обследования, работу учёных и научных сообществ на местах, то есть обнаружение, учёт, регистрация и изучение памятников являлись необходимыми условиями сохранения культурного наследия России. Однако здесь имелись большие трудности, связанные с отсутствием достаточного количества специалистов, в первую очередь – в провинции. Подготовка специальных кадров в университетах не осуществлялась. Не занимался этим и созданный в 1878 г. Петербургский археологический институт. Только открытый в 1907 г. по инициативе А.И. Успенского частный Московский археологический институт в качестве вспомогательных исторических дисциплин использовал преподавание истории мирового и отечественного искусства. Его филиалы возникли в Смоленске, Калуге, Витебске, Нижнем Новгороде, Ярославле. Институт принимал участие в практической работе по сохранению историко-культурного наследия. В 1911 г. при его поддержке в Смоленске на основе коллекции М.К. Тенишевой был открыт музей «Русская старина». В 1913 г. благодаря почину преподавателей института возникло «Общество исследователей памятников древностей им. А.И. Успенского». В этом же году подобное частное учебное заведение было создано и в Санкт-Петербурге. Графу В.П. Зубову попечитель Петербургского учебного округа позволил организовать в помещении его библиотеки «систематические курсы без экзаменов и дипломов». Хотя ещё до 1910 г. он предлагал создать Институт истории искусств. До начала Первой мировой войны эти институты и курсы подготовили более тысячи человек, которых можно было считать потенциальными специалистами в сфере охраны памятников (Николаев, 2009).
Таким образом, видно, что деятельность исторических научных сообществ Российской империи пореформенного периода имеет первостепенное значение в области охраны объектов культурного наследия, а основное внимание подобных организаций уже в XIX в. обращалось на разработку методических подходов в этой сфере. Перспектива настоящего исследования нам видится в дальнейшем изучении различных аспектов данной темы как актуальной и востребованной в современной исторической науке.
Список литературы Значение деятельности исторических научных сообществ конца XIX - начала XX вв. для сохранения объектов культурного наследия
- Алексеева Л.С., Горбатов А.В. Церковный музей в дореволюционный период: этапы и факторы становления // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 2 (74). С. 5–10. https://doi.org/10.21603/2078-8975-2018-2-5-10.
- Ахметшин А.С. Законодательство по охране памятников культуры в России XIX – начала XX вв. и практика его применения // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2013. № 2 (35). С. 27–33.
- Богданова О.В. К вопросу об охране памятников старины в России в начале XX в. // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 7–13.
- Богомолов А.Б. Особенности церковного законодательства о сохранении памятников древности России в конце XIX –начале XX века // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. 2021. № 1 (6). С. 51–68. https://doi.org/10.47132/2587-8425_2021_1_51.
- Забелин И.Е. Черты московской самобытности. М., 2007. 511 с.
- Карапетян Л.А. К вопросу о роли научных обществ в охране культурного наследия России на рубеже XIX–XX вв.: реальность, идеи, законопроекты // Культурная жизнь Юга России. 2017. № 3 (66). С. 7–10.
- Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX в. в России. М., 1986. 344 с.
- Музраева А.Д., Рычагова К.М., Улюмджиева Э.С. Документально-правовая основа создания Ставропольской губернской ученой архивной комиссии в 1884 г. // Аграрное и земельное право. 2023. № 5 (221). С. 16–19. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2023_5_16.
- Николаев А.Л. Подготовка специалистов по русской старине в Санкт-Петербургском и Московском археологических институтах // Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4-4 (64). С. 186–192.
- Полякова М.А. Подходы к изучению культурного наследия России в XVIII – начале XX века // Вестник РГГУ. Серия: Культурология. Искусствоведение. Музеология. 2008. № 8. С. 257–266.
- Степанский А.Д. К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1975. С. 38–55.
- Филюшкин А.И. Чужое прошлое? Какие памятники истории искала Россия на своих восточных окраинах // Новое прошлое. 2018. № 1. С. 79–96. http://doi.org/10.23683/2500-3224-2018-1-79-96.