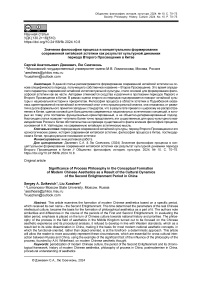Значение философии процесса в концептуальном формировании современной китайской эстетики как результат культурной динамики периода второго просвещения в Китае
Автор: Дзикевич С.А., Лю С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается формирование современной китайской эстетики на основе специфического периода, получившего собственное название - Второе Просвещение. Это время определило параметры современной китайской интеллектуальной культуры, стало основой для формирования философской эстетики как ее части. Авторами отмечаются сходства и различия в протекании периодов Первого и Второго Просвещения в Китае. В рамках оценки второго из периодов подчеркивается поворот китайской культуры к национальной истории и приоритетам. Философия процесса в области эстетики в Поднебесной оказалась ориентированной на китайский эстетический опыт и его процессуальный анализ, она отказалась от развития в русле формального принятия западных стандартов, что в результате привело к широкому ее распространению в Китае, сделав основой для большинства современных национальных эстетических концепций, в которых во главу угла поставлен функционально-ориентированный, а не объектно-детерминированный подход. Настоящая статья позволит читателю более точно представлять эти существенные для кросс-культурного взаимодействия России и Китая обстоятельства на примере существенного факта влияния философии процесса, основанной А.Н. Уайтхедом, на современную китайскую эстетическую мысль.
Периодизация современной китайской культуры, период второго просвещения и его хронологические рамки, история современной китайской эстетики, философия процесса в китае, постмодернизм в китае, процессуальное понимание эстетики
Короткий адрес: https://sciup.org/149147049
IDR: 149147049 | УДК: [130.2+18](510) | DOI: 10.24158/fik.2024.10.8
Текст научной статьи Значение философии процесса в концептуальном формировании современной китайской эстетики как результат культурной динамики периода второго просвещения в Китае
Введение . В XVII–XVIII вв. европейское движение Просвещения с его акцентом на «рациональность» оказало глубокое влияние на процесс мирового развития и привело к качественным изменениям в современной глобальной экономике, технологиях, промышленности, политике, образовании и т.д. Это стало основой новейшего периода развития западной культуры как в ее интеллектуальной, так и в материальной части, включая промышленную и технологическую революцию.
Китайское общество и культура имели иную динамику развития, одним из определяющих факторов которой была герметичность в отношении внешнего, в том числе и западного, влияния. В середине XIX в. изолированность стала ослабевать, и европейские идеи, в том числе научного и технологического характера, стали оказывать значительное влияние на китайское общество, именно этот процесс, только по аналогии с западным в референциях к рациональности, стал называться Просвещением в контексте истории китайской культуры. Однако следует иметь в виду, что это был совершенно иной процесс, нежели в Европе: в Китае никогда не было единой доминирующей религиозной конфессии и интеллектуального диктата связанной с ним теологии.
Этот процесс, основанный на первичном знакомстве китайского общества с западной интеллектуальной и материальной культурой, апроприации ее результатов, привел к модернизации китайского общества, укоренению в нем современных «форм мышления» и «форм жизни».1 Одним из результатов его стало и распространение форм западной идеологии, в том числе и марксизма. Китайская его версия впоследствии привела к реинкарнации прежней закрытости и новой герметизации китайской культурной жизни в явлении, которое получило название «культурной революции», события которой развернулись во второй половине 1960-х и начале 1970-х гг., приведя к резкому отставанию материального и интеллектуального развития китайского общества от внешних, прежде всего западных, показателей. Именно преодоление этого, ставшего очевидным, разрыва привело новое руководство и интеллектуалов Китая к осознанию необходимости возобновить процесс китайского Просвещения, но обратиться теперь не к историческому наследию западной культуры, а к новейшей ее фазе, переосмыслив и апроприировав для Китая все наиболее эффективные ее проявления для процветания и прогресса общества Поднебесной.
Эти события произошли ровно через сто лет после первых, их контекст был совершенно иным, общим было только переосмысление достижений внешней к Китаю, прежде всего, западной культуры. Оба процесса горизонтально сопоставлены, но имеют различные хронологические коннотации, отражающие их историческую специфику: Первое Просвещение (последняя треть XIX – начало ХХ вв.) и Второе Просвещение (последняя треть ХХ – начало XXI вв.).
Настоящая статья посвящена уточнению того, почему Первого Просвещения оказалось недостаточно для окончательной модернизации и тем более постмодернизации китайского общества и почему Второе Просвещение стало для этого совершенно необходимым культурным процессом. Работы по данной проблематике, разумеется, в китайской науке имеются, но эта тема все еще остается недостаточно освещенной и не осмысленной в должной мере профильным сообществом (Wang Zhihe, Fan Meijun, 2011; Лю Сюечжэнь, 2023). В российской литературе она в силу ее специфики не получила рассмотрения в достаточной мере, поэтому мы надеемся, что эта публикация внесет надлежащий вклад в уточнение содержательной динамики новейшей китайской культуры, репрезентировав реальное содержание процесса Второго Просвещения на конкретном примере эстетической мысли и места в ней методологии философии процесса, основанной А.Н. Уайтхедом (Whitehead, 1967) и осмысленной китайским интеллектуальным сообществом именно в этот период новой ревизии и апроприации западной мысли. Следует отметить, что китайские переводы ключевых текстов А.Н. Уайтхеда явились не только важными явлениями, но и «триггерами» многих процессов Второго Просвещения.
К методологическим основаниям настоящей работы мы относим понимание специфики явлений культуры с точки зрения их темпоральной и пространственной идентичности, которое приобрело концептуальное выражение в упомянутых нами выше понятиях «формы жизни» и «формы мышления», введенных Й. Хейзингой, и понимание процедур фундирования исторических оценок и выводов в соответствии с позициями международной эстетической Школы Анналов, поскольку в нашей статье речь идет о фундаментальных исторических процессах, требующих обоснованной оценки с опорой на памятники и документы.
Тенденции развития гуманизма в современном Китае . В 2007 г. профессор Ван Чжихэ1 в соавторстве с Фань Мэйцзюнь2, суммируя отчасти произошедшие к тому времени перемены, а отчасти формулируя цели дальнейшего развития философской мысли в Китае и перспективы эволюции национальной культуры, выдвинул концепцию Второго Просвещения в Китае (Wang Zhihe, Fan Meijun, 2011), которая охватывала основные проблемы развития современной китайской культуры, в том числе в сфере философии и эстетики.
Важно отметить, что в данной теории Второе Просвещение, или Просвещение Постмодерна, является не отрицанием, а, скорее, консолидацией наиболее продуктивных достижений Первого Просвещения (Просвещения Модерна) (Фэн Юлан, 1981). По мысли Вана Чжихэ, оно стремилось к созданию адекватного дискурса времени в китайской культуре, апроприируя достижения мировой культуры новейшего времени, создавая новые аутентичные достижения собственно китайской культуры и представляя их через каналы глобальных коммуникаций общечеловеческому социуму (Wang Zhihe, Fan Meijun, 2011). Отметим, продолжая эту мысль, что грандиозный проект Второго Просвещения, дал китайской культуре вдохновляющее и новое чувство взаимодополняемости культур, которое стало принято называть конструктивным постмодернизмом.
При аналитическом рассмотрении различия между двумя эпохами Просвещения в Китае становятся очевидными. Первая из них содержала в себе установку жесткого антропоцентризма, индустриальной экспансии в природу, вторая – была ориентирована на восстановление гармонии с природой без утраты преимуществ, которые дал индустриальный потенциал. Первое Просвещение сосредоточило внимание на практически-функциональных, прикладных функциях пришедших с Запада теоретических конструкций, Второе Просвещение обратилось к фундаментальной их основе, соединяя ее с задачами создания целостной картины мира в сознании людей и традициями многотысячелетнего опыта китайского философского освоения мира. В области эстетики эти различия стали особенно эмоционально конкретными, поскольку в этом дискурсе вообще всегда речь идет о том, что вызывает те или иные переживания, попадает в сферу эстетического опыта. Поэтому, если эстетический дискурс Первого Просвещения стремился апроприировать эстетические концептуальные инструменты (теории, концепции, понятийно-терминологический аппарат), выработанный западной эстетико-философской мыслью, то Второе Просвещение ставило перед собой цель подвергнуть ревизии результаты этой апроприации, а также переосмыслить те теории, которые появились уже в ХХ в., установить, насколько все эти теории реально соответствуют фундаментальным параметрам эстетического опыта людей, многие тысячи лет живущих в Поднебесной в одних и тех же фундаментальных природных параметрах (леса, реки, море, горы, растительность, климат), и соединить западные теории с теми теоретическими положениями, которые содержала в себе традиционная китайская философская мысль и которых не было и не могло быть в западной эстетической мысли, поскольку авторы европейских теорий не могли иметь опыта жизни в китайских природных условиях. По этим причинам тематика эстетического отношения к природе становится отправной точкой для теоретической работы в Китае в период Второго Просвещения3.
Таким образом, в области эстетики для трансформаций в теоретической проблематике в период Второго Просвещения можно выделить две основные тенденции: 1) отказ от примата идеологических макронарративов и обращение к исследованиям эстетического опыта как такового, в котором выделяется как наиболее важная проблематика среды человеческого существования (экологическая группа проблем в самом широком понимании ключевого термина); 2) направление усилий на прогнозирование будущего на основании реальных проблем и коллизий настоящего (в этом контексте значимо рассуждение о долженствующей нераздельности реальности и мысли такого заметного автора, как профессор Фэн Юлань, эти два понятия не автономны, а взаимозависимы и неразделимы. Мысль – это «чистая форма», абстрагированная от реальности, а реальность должна брать мысль в качестве своей теоретической основы (Фэн Юлань, 1981)).
В силу специфики Первого Просвещения, в числе главных задач которого была адаптация и освоение западных форм мышления, традиционная китайская философско-эстетическая рефлексия была выведена из зоны внимания, поскольку она не имела эпистемологических параметров западной дискурсивной системы, форм западной мысли Нового времени. Это было до известной степени закономерным процессом: в Китае того времени, действительно, не существовало науки и системы образования в принятом значении, и их институциональное основание было совершенно необходимо. Однако через 100 лет обстоятельства изменились, сами науки западного типа столкнулись с серьезными эпистемологическими проблемами, сложилась «ситуация постмодерна»1, которая заключалось во многом в стремлении в необходимости выхода за пределы междисциплинарных ограничений и пополнение понятийно-терминологического потенциала науки элементами нового языка, в том числе пришедшего извне наук Нового времени, но отражающего единство субъекта в отношении к миру, столь необходимое в современном мире, перегруженном потоками разделяющей, раздробляющей информации. Эта новая ситуация должна была быть учтена. Урок обнаружения самим западным научным знанием своих ограничений должен был быть учтен. В этом случае стало очевидно, что нет смысла обращаться в качестве альтернативы к тому, на что был ориентирован западный, в первую очередь деконструктивный, постмодернизм, следовало вернуться к собственной истории, наследию своей собственной интеллектуальной культуры2.
Причина заключалась в том, что китайская интеллектуальная традиция гораздо старше западной, и ей удалось избежать тех многих ограничений, которые, в том числе, привели европейское знание к кризису3. Поэтому мотив переосмысления значений классического китайского философского наследия, и в области эстетики тоже, стал ключевым аспектом содержания теоретических поисков периода Второго Просвещения в Китае.
На наш взгляд, эти исторические факторы происхождения современной китайской эстетики позволят в будущем прийти к формированию эстетического дискурса, адекватного проблемам соответствующего опыта субъектов восприятия не только в Китае, но и, по существенным аналогиям, имеющего значение и для эстетической рефлексии во всем мире (John Cobb’s Theology in Process …, 1977). Ориентация на новую открытость, когда Китай становится не только участником мировой научной интеграции, но и поставщиком важных теоретических инноваций мировому научному сообществу на основаниях своей аутентичной многотысячелетней культуры, явилась одним из важных достижений гуманистической мысли периода Второго Просвещения в Китае.
Появление и роль философии процесса в культурных трансформациях Второго Просвещения в Китае . В ходе Второго Просвещения в Китае установки на культурную дополнительность и новое обращение к собственным традициям оказались тесно взаимосвязанными: переосмыслению подверглись все западные теории в эстетической области, в том числе и марксистская концепция4.
Одним из примеров построения синтетической концепции, аккумулирующей западный дискурс – марксистский и прагматистский – с философскими традициями китайской философско-эстетической рефлексией, в частности, традицией Конфуция, стала, на наш взгляд, концепция, получившая название эстетики жизни. Мы не станем излагать в подробностях ее содержание, в контексте настоящей статьи мы хотели бы обратить внимание только на одно обстоятельство: основная черта китайской философско-эстетической традиции и мудрость жизни китайского народа заключается в том, чтобы превратить «живую жизнь ( 过生活 )» в «каждый день – прекрасный день ( 日日 )» (Лю Юеди, 2022). Поэтому эстетика жизни – это изучение «эстетической жизни» и стремления усовершенствовать человеческое существование на эстетических началах, благоустроенную в материальном отношении (хорошую ( 好生活 )) жизнь сделать гармонической, приносящей всестороннюю, в том числе интеллектуальную, созерцательную радость (Лю Юеди, 2022).
В этом, несомненно, проявляется то, что по мысли, высказанной Х.-Г. Гадамером, объясняется привязанностью человека к плодам созданной им цивилизации, то есть «зависимостью человека от того, что он создал вокруг себя в качестве нашей цивилизации» (Гадамер, 1988). Сказанное также означает, что «эстетическая мудрость», смоделированная дискурсом времени культуры в период Второго Просвещения в Китае (Wang Zhihe, Fan Meijun, 2011), должна быть обращена, согласно устоям многовековой китайской философской традиции и практическим представлениям о ценностной иерархии в жизни, к процессу перехода от хорошей жизни к прекрасной в параметрах внутренне-эмоционального опыта субъекта. Это и есть та причина, по которой философия процесса и ее эстетическая парадигма по мере знакомства с ней китайского академического сообщества оказались способными в наиболее универсальной форме теоретически соответствовать дискурсу времени, смоделированному Вторым Просвещением в Китае.
В работе «Приключения идей» А.Н. Уайтхед последовательно выстраивает концепцию, заключающуюся в том, что человечество выживает на основании базовой убежденности единства, являющегося субъекту (данного в восприятии), и сущностно реального (Уайтхед, 2009). В этом – базовая установка его эпистемологической позиции. То же, что является, есть процесс, поскольку никогда не предстает в зафиксированном виде, как и познание, так как к одному и тому же предмету субъект возвращается в различных гносеологических состояниях. Поэтому познание мира всегда есть пересечение процессов. Ключевую эпистемологическую роль, как мы видим, в этом играет восприятие данным единичным субъектом явлений мира. Такой процесс никогда не бывает статическим актом, как его привыкли понимать и представлять в иных гносеологических доктринах, более того, он никогда не повторяется при внешне кажущихся аналогичными обстоятельствах. Отношение философии процесса к эстетической проблематике в целом совершенно специфично, оно не совпадает с позициями других направлений и отдельных авторов и может быть названо эстетическим атомизмом1.
Заключение . То обстоятельство, что философия процесса в области эстетики оказалась сфокусированной на конкретных условиях эстетического опыта и его процессуальном анализе, не навязывая никаких взятых извне клише и стандартов, в том числе и западного происхождения, сделало эту парадигму очень родственной и благоприятной для апроприации в период Второго Просвещения в Китае. Прямо и косвенно идеи философии процесса в области эстетики повлияли на большинство современных китайских эстетических концепций, поскольку, как справедливо замечают прозорливые аналитики, выбор содержания мышления сместился от объектно-детерминированного к функционально-ориентированному (Ли Жунхай, 2004), что полностью покрывается описанной нами процессуальной позицией и принятием основания эстетического атомизма как начала теоретического дискурса содержательной эстетики.
Материалы и данные, которые вводятся в научный оборот настоящей статьей, по мысли авторов, способны вызвать дополнительный интерес профильной аудитории как к современной китайской философии, так и к процессуальной парадигме в эстетических исследованиях. Авторы рассчитывают на то, что статья окажется полезной в научной и преподавательской деятельности специалистов в области эстетики в России и в Китае.
Список литературы Значение философии процесса в концептуальном формировании современной китайской эстетики как результат культурной динамики периода второго просвещения в Китае
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 700 с.
- Дзикевич С.А., Дзикевич Е.А. Современная философия в эстетических аспектах. М., 2024. 150 с.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М. ; СПб., 1998. 160 с.
- Лю Сюечжэнь. Историческая динамика развития современной эстетической мысли в Китае: процессуальный анализ // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2023. Т. 47, № 5. С. 107–126. https://doi.org/10.55959/MSU0201-7385-7-2023-5-107-126.
- Уайтхед А.Н. Приключения идей. М., 2009. 382 с.
- Фэн Юлань. Китайская политическая философия и практическая политика в истории Китая. Пекин, 1981. 400 с. (на кит. яз.)
- Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. 540 с.
- 刘跃迪。 广义的中国生活美学//艺术。 2022. 3号。 C.18-23. = Лю Юэди. Эстетика китайской жизни // Искусство в широкой перспективе. 2022. № 3. C. 18–23. (на кит. яз.)
- 李荣海。 哲学:从对象定义到功能管理//广东社会科学报. 2004. 2号。 第32-38页。= Ли Жунхай. Философия: от определения объекта к руководству функциями // Гуандунский журнал социальных наук. 2004. № 2. С. 32–38. (на кит. яз.)
- John Cobb’s Theology in Process / eds.: D.R. Griffin, Altizer Th.J.J. Philadelphia, 1977. 201 р.
- Whitehead А.N. Process and Reality. N. Y., 1967. 546 p.
- Wang Zhihe, Fan Meijun. Second Enlightenment. Beijing, 2011. 478 p.