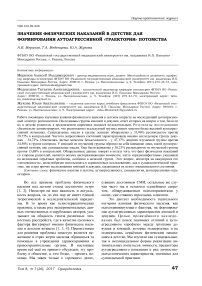Значение физических наказаний в детстве для формирования аутоагрессивной «траектории» потомства
Автор: Меринов А.В., Меденцева Т.А., Жукова Ю.А.
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 1 (26) т.8, 2017 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена изучению влияния физического насилия в детском возрасте на последующий аутоагрессивный «спектр» респондентов. Исследованы группы юношей и девушек, ответ которых на вопрос о том, били ли их в детстве родители, в предлагаемом опроснике оказался положительным. Результаты исследования убедительно демонстрируют, что респонденты исследуемой группы имеют заметно более высокий аутоагрессивный потенциал. Суицидальные мысли в группе девушек обнаружены у 33,96% респонденток против 20,75% в контрольной. Частота депрессивных состояний характеризовала именно исследуемую группу девушек - 54,72%. Отмечались частые моменты безысходности - у 47,17% девушек изучаемой группы против 34,50% в группе контроля. У юношей из изучаемой группы обратил на себя внимание лишь такой аутоагрессивный паттерн, как суицидальные мысли. Они были выявлены у 30,23% респондентов из изучаемой группы против 13,68% в контрольной. Обнаруженные данные говорят в пользу того, что факт физических наказаний со стороны родителей, является весьма настораживающим моментом, часто «предманифестным» указанием на возможные серьёзные проблемы, особенно в женской группе. Этот вопрос, несмотря на кажущуюся его «легковесность», целесообразно использовать в скрининговых исследованиях, как в суицидологической практике, так и при прочих исследованиях юношей и девушек, касающихся их психо-эмоционального состояния.
Физическое насилие в детстве, аутоагрессивность, суицидология, аутоагрессивная "траектория"
Короткий адрес: https://sciup.org/140219293
IDR: 140219293 | УДК: 616.89-008
Текст научной статьи Значение физических наказаний в детстве для формирования аутоагрессивной «траектории» потомства
Во все времена проблема физического насилия над детьми стояла достаточно остро [1, 2]. Несмотря на всю важность и актуальность вопроса, он до сих пор не имеет единой теоретической и исследовательской парадигмы. В то время как психотерапевтическая практика, а также ряд экспериментальных данных отечественных и зарубежных авторов, указывают на общность генеза различных личностных расстройств, где в качестве пускового фактора фигурирует именно физическое насилие в детском возрасте [1, 3, 4]. Препятствием для решения проблемы зачастую является нежелание и страх жертв насилия обращаться за помощью в учреждения здравоохранения и правоохранительные органы. В настоящее время всё ещё не принято обсуждать эту проблему в обществе, а, тем более, - просить помощи. Мы знаем только о «громких» делах, ставших достоянием СМИ, остальные же случаи часто так и остаются «семейным» секретом, обнаруживаемым психотерапевтами у своих, уже ставших взрослыми, клиентов.
Это диктует необходимость тщательного изучения влияния физического насилия, как психотравмирующего фактора, на формирование аутоагрессивных характеристик юношей и девушек. Целью проведённого исследования был поиск значимых отличий в аутоагрессивном «профиле» между группами девушек и юношей, которые подвергались и не подвергались серьёзным физическим наказаниям в детстве. Мы изучили как суицидальные, так и несуицидальные формы реализации ан-тивитальных импульсов личности, предикторы аутоагрессивного поведения и ряд личностнопсихологических характеристик, значимых для суицидальной практики.
Материалы и методы.
Для решения поставленных задач было обследовано 645 респондентов. Из них количество подвергавшихся серьёзным физическим наказаниям в детстве составило 153 человека – 45 юношей (ЮФН) и 108 девушек (ДФН). В качестве контрольной группы использовались девушки и юноши, которые не подвергались серьёзным физическим наказаниям в детстве – в количестве 492 – 119 юношей (ЮБезФН) и 373 девушки (ДБезФН).
Критерием включения в изучаемые группы являлось личное сообщение респондентами о наличии в отношении них неоднократных актов физического наказания со стороны родителей, которые сами обследуемые расценивали как таковые. То есть, данные моменты были «зафиксированы» в памяти ребёнка именно как неоправданно сильная агрессия в их сторону, а не «журящие» действия со стороны взрослых. Это были как случаи чрезмерного «воспитательного» характера, так и немотивированная агрессия, нередко сочетающаяся с алкогольным опьянением родителя. В процессе бесед с респондентами, было выяснено, что, несмотря на кажущуюся «размытость» явления, все опрошенные нами молодые люди четко относили себя к той или иной группе, вне зависимости от объёма и частоты «наказаний». То есть, несмотря на тот факт, что некие физические «воздействия» присутствовали достаточно часто (в виде «необидных» и заслуженных), к группе «подвергавшихся серьёзному насилию» отнесли себя лишь часть из них. Вероятно, подобная субъективная оценка в значительной степени формируется в случае попрания достоинства ребёнка и абсолютной немотивиро-ванности действий (в отношении причины, либо силы воздействия).
Средний возраст респондентов в исследуемых группах составил: для юношей, подвергавшихся физическим наказаниям – 21,76±1,97 года; для юношей, не подвергавшихся наказаниям – 21,48±1,49 года. Соответственно, для девушек, подвергавшихся физическим наказаниям – 20,79±1,26 лет; для девушек, не подвергавшихся физическим наказаниям – 20,73±1,99 лет. Обследованные респонденты были сопоставимы по основным социально - демографическим показателям.
В качестве диагностического инструмента использовался опросник для выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем [5]. Для оценки личностно-психологических показателей в группах использована батарея тестов, содержащая: тест преобладающих механизмов психологических защит (LSI) Плутчека-Келлермана-Конте, а также «Шкала родительских предписаний» [6].
Для решения поставленной задачи было произведено «фронтальное» сравнение всех изучаемых признаков в подгруппах (суицидологических, личностно-психологических). Статистический анализ и обработку данных проводили посредством параметрических и непараметрических методов математической статистики с использованием критериев Стьюдента, Уилкоксона, χ2, а также χ2 с поправкой Йетса. Выборочные дескриптивные статистики в работе представлены в виде М±m (средней ± стандартное квадратичное отклонение).
Результаты и их обсуждение.
Традиционно, вначале проанализируем представленность классических суицидальных паттернов поведения в группах. В первой таблице представлены статистически значимые отличия в юношеской группе.
Таблица 1
Основные статистически значимые отличия в отношении суицидальных паттернов в группах юношей
|
Признак |
ЮФН (n=43) |
ЮБезФН (n=117) |
χ2 |
Значение df |
P< |
||
|
n |
% |
n |
% |
||||
|
Суицидальные мысли в анамнезе |
13 |
30,23 |
16 |
13,68 |
5,81 |
1 |
0,01 |
Таблица 2
Основные статистически значимые отличия в отношении суицидальных паттернов в исследуемых группах девушек
|
Признак |
ДФН (n=106) |
ДБезФН (n=371) |
χ2 |
Значение df |
P< |
||
|
n |
% |
n |
% |
||||
|
Суицидальные мысли в анамнезе |
36 |
33,96 |
77 |
20,75 |
7,96 |
1 |
0,01 |
|
Суицидальные мысли в последние два года |
24 |
22,64 |
43 |
11,59 |
6,47 |
1 |
0,01 |
Из представленных данных, видно, что суицидальные мысли значительно чаще (почти в 2,5 раза) наблюдаются именно у юношей, которые подвергались физическим наказаниям в детстве. Этот факт в определённой степени совпадает с данными других исследований в этой области, касающихся посмертной оценки возможных предикторов суицидального поведения [3]. Учитывая тот факт, что наше исследование касалось ныне живущих респондентов (без учёта возможных суицидальных потерь в группе), данный факт является крайне настораживающим феноменом в плане реализации антивитального потенциала. Отметим, что по количеству суицидальных попыток отличие не достигает статистически значимых границ (в группе ЮФН оно составляет 11,63%, а в группе ЮБезФН = 5,98%), тем не менее, обнаруженная тенденция, на наш взгляд, заслуживает внимания.
В табл. 2 рассмотрены статистические значимые отличия в отношении суицидальных паттернов поведения в исследуемых группах девушек. Из данных, представленных в табл. 2, можно сделать аналогичный вывод о значимом влиянии пережитого физического насилия в детстве на количество суицидальных идеаций.
Таким образом, полученные данные в обеих половых группах говорят об «отсроченном» на долгие годы влиянии физических наказаний в детском возрасте на суицидальный потенциал подростка. Учитывая непопулярность и замалчивание рассматриваемых действий в отношении ребёнка, либо обесценивание их зна- чения в современном обществе, обнаруженные особенности демонстрируют, возможно, малоиспользуемые точки приложения психотерапевтической активности в суицидологической практике.
В табл. 3 представлены найденные отличия в отношении несуицидальных паттернов поведения в исследуемых группах девушек.
Из данных, представленных в табл. 3, хорошо видно, что исследуемую группу девушек, в значительно большей степени характеризует целый ряд важных предикторов аутоагрессивного поведения. У ДФН достоверно чаще отмечаются наиболее значимые в суицидологии эмоциональные маркеры: чувство вины, стыда, переживание моментов острого одиночества, депрессивные реакции, безысходность, частые угрызения совести, комплекс неполноценности. Можно предположить, что именно пережитое в детстве насилие стало одной из возможных причин появления столь серьёзных эмоциональных проблем.
При анализе несуицидальных аутоагрессивных паттернов поведения и их предикторов в группах юношей статистически значимых отличий обнаружено не было, что может говорить, либо о меньшем «фронте» влияния физических наказаний на лиц мужского пола, либо о сглаживании имеющихся влияний гендерными механизмами совладания, не допускающими формирования типичного для изученных девушек комплекса «личностного дискаунта» – наличия частых эмоциональных проблем и идей малоценности - неполноценности.
Таблица 3
Основные статистически значимые отличия в отношении несуицидальных предикторов аутоагрессии у девушек
|
Признак |
ДФН (n=106) |
ДБезФН (n=371) |
χ2 |
Значение df |
Р< |
||
|
n |
% |
n |
% |
||||
|
Долго переживаемое чувство вины |
56 |
52,83 |
119 |
32,08 |
15,29 |
1 |
0,01 |
|
Навязчивое чувство стыда |
32 |
30,19 |
67 |
18,06 |
7,37 |
1 |
0,01 |
|
Периоды депрессии |
58 |
54,72 |
160 |
43,13 |
4,46 |
1 |
0,025 |
|
Моменты безысходности |
50 |
47,17 |
128 |
34,50 |
5,66 |
1 |
0,01 |
|
Уверенность в наличии физического недостатка |
32 |
30,19 |
58 |
15,63 |
11,41 |
1 |
0,01 |
|
Наличие комплекса неполноценности |
49 |
46,23 |
121 |
32,61 |
6,66 |
1 |
0,01 |
|
Угрызения совести |
48 |
45,28 |
108 |
29,11 |
9,8 |
1 |
0,01 |
|
Частое ощущение одиночества |
59 |
55,66 |
138 |
37,2 |
11,59 |
1 |
0,01 |
|
Склонность к неоправданному риску |
32 |
30,19 |
72 |
19,40 |
5,62 |
1 |
0,01 |
|
Гетероагрессивность |
44 |
41,50 |
115 |
30,99 |
4,1 |
1 |
0,025 |
В табл. 4 отражены значимые отличия, касающиеся ряда личностно-психологических характеристик, которые были обнаружены опять же исключительно в исследуемых группах девушек.
Таблица 4
Основные статистически значимые отличия в отношении личностно-психологических характеристик у девушек
|
Признак |
ДФН (n=106) |
ДБезФН (n=371) |
P< |
|
Преобладающие механизмы психологических защит |
|||
|
Вытеснение |
3,35±1,85 |
2,91±1,88 |
0,034 |
|
Замещение |
4,33±2,87 |
3,73±2,47 |
0,036 |
|
Специфика родительских посланий |
|||
|
Не существуй |
16,37±6,25 |
14,75±6,12 |
0,017 |
|
Не будь близок |
18,54±6,90 |
16,63±6,87 |
0,012 |
Группа ДФН отличается частотой использования таких защитных психологических механизмов, как «Вытеснение» и «Замещение». Вытеснение, как защитный механизм, направлено на минимизацию отрицательных переживаний за счёт удаления из сознания того, что эти переживания вызывает. При этом неприемлемая информация, мысли, события, чувства продолжают своё существование в бессознательном, не переставая оказывать влияния на поведение человека. Замещение, в свою очередь, характеризуется проявлением переадресации инстинктивного импульса от более угрожающего объекта или личности к менее угрожающему (в случае аутоагрессии – на себя). Данный «набор» механизмов психологических защит прекрасно дополняет обнаруженную нами «картину» эмоциональных аутоагрессивных предикторов, поскольку «объективизирует» механизмы возникновения идей сквозной виновности, склонности к угрызениям совести – за сделанное и не сделанное. Хорошо известно, что в случаях наказаний в детстве, их причина не всегда очевидна и понятна, а их наличие для ребёнка – факт, ставящий под сомнение его нужность вообще, и факт любви со стороны родителей [6]. Это способно сформировать последующий комплекс жертвы и низкую самооценку, сопровождающиеся периодами самоуничижения и безысходности, где обнаруживаемые преобладающие психологические защитные механизмы лишь камуфлируют одну из самых «токсичных» причин их возникновения.
При оценке «Шкалы предписаний» обнаружены весьма специфические профили родительских посланий. Исследуемые группы девушек достоверно отличались в отношении следующих родительских посланий: «Не существуй» и «Не будь близок». Послание «Не существуй» является наиболее злокачественным в суицидологическом плане [7, 8]. Оно характерно для людей, которые чувствуют себя ущербными, ненужными или нелюбимыми – потенциальных или явных аутоагрессантов. Послание «Не будь близок», в свою очередь, формирует неспособность установления близких личностных отношений, поскольку таковые в детстве носили негативный и ненадежный характер [7]. В будущем это порождает одиночество и изоляцию, неспособность устанавливать доверительные отношения и обращаться за помощью. Эти два послания обычно неразрывно связаны между собой. Получение рассматриваемого комплекса посланий крайне вероятно при наличии серьезных физических наказаний в детстве, а обнаруженные аутоагрессивные маркеры группы и преимущественно используемые защитные психологические механизмы хорошо согласуются и ними.
Что касается исследуемых групп юношей, то у них статистически значимых отличий в личностно-психологических характеристиках обнаружено не было, что повторно позволяет сделать вывод об определенной гендерной неоднозначности влияния физических наказаний в детстве. Этот вывод имел бы гораздо большее и далеко идущее значение в отношении изучаемого «воспитательного фактора», если бы не обнаруженное высокое количество суицидальных идеаций в группе. Скорее всего, речь можно вести об упомянутом выше, гендерном стиле в отношении коппинг-стратегий.
Таблица 5
Наличие родителей, страдающих алкогольной зависимостью в группах
|
Показатель |
ДФН (n=106) |
ДБезФН (n=371) |
ЮФН (n=43) |
ЮБезФН (n=117) |
||||
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|
|
Наличие родителей, страдающих алкогольной зависимостью |
38 |
35,8 |
119 |
32,0 |
15 |
34,9 |
34 |
29,0 |
Молодые люди «не плачут, не чувствуют себя одинокими с периодами безнадежности» в отличие от девушек, где рассматриваемые паттерны социально более разрешены и понятны. Этот момент приобретает несколько иное звучание в свете хорошо известного факта в суицидологии: ранимые и излишне аффектированные женщины совершают больше суицидальных попыток, первично завершенный суицид – остаётся прерогативой мужского населения. Так или иначе, обнаруженные особенности, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего изучения.
В заключение, стоит отметить ещё одну особенность, выявленную в проведённом исследовании. Речь идёт о наличии или отсутствии в родительской семье злоупотребляющего алкоголем отца или матери. Вывод, априори, напрашивался сам собой. Ожидалось, что количество семей с алкогольным анамнезом будет существенно выше в группах ДФН и ЮФН, что практически постулируется, как очевидный факт в ряде исследований [9]. Однако в нашем исследовании обнаружилось, что количество пьющих родителей в группах, было практически идентичным, что отражено в таблице 5.
Можно предположить, что влияние рассматриваемого параметра в ряде случаев может переоцениваться, и для ребёнка не принципиально «трезвое» или «пьяное» грубое поведение в отношении себя.
Выводы:
-
1. Юноши и девушки, подвергавшиеся серьезным физическим наказаниям со стороны
Список литературы Значение физических наказаний в детстве для формирования аутоагрессивной «траектории» потомства
- Панченко Е.А. Фактор семьи в генезе суицидального поведения//Фундаментальные аспекты психического здоровья. -2015. -№ 3. -С. 33-35.
- Лукашук А.В., Меринов А.В. Актуальность исследования клинико-психологической характеристики родителей подростков, совершивших суицидальную попытку//Тюменский медицинский журнал. -2014. -Том 16, № 3. -С. 20-21.
- Suicide. An unnecessary death/ed.: D. Wasserman. -London, UK: Martin Dunitz, 2001. -286 p.
- Roberts G.L. Domestic violence in the Emergency Department: I. Two case-control studies of victims//Gen. Hosp. Psychiatry. -1997. -Vol. 277, № 1. -P. 5-11.
- Шустов Д.И., Меринов А.В. Диагностика аутоагрессивного поведения при алкоголизме методом терапевтического интервью. Пособие для врачей психиатров-наркологов и психотерапевтов. -Москва, 2000. -20 с.
- Steward I. Developing Transactional Analysis Counseling. -London: Thousand Oaks; New Delhi: SAGA Publications, 1996. -286 р.
- Stewart I., Joines V. TA Today. A new introduction to Transactional Analysis. -Nottingham; Chapel Hill: Lifespace Publ., 1987. -342 p.
- Меринов А.В. Вариант эпискрипта в семьях больных алкогольной зависимостью//Наркология. -2010. -№ 3. -С. 77-80.
- Закирова В.М. Развод и насилие в семье -феномены семейного неблагополучия//Социологические исследования. -2002. -№ 12. -С. 131134.