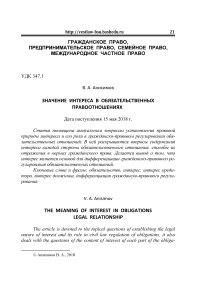Значение интереса в обязательственных правоотношениях
Автор: Анисимов Владимир Александрович
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право
Статья в выпуске: 1 (1), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальным вопросам установления правовой природы интереса и его роли в гражданско-правовом регулировании обязательственных отношений. В ней раскрываются вопросы содержания интереса каждой стороны обязательственного отношения, способы их отражения в нормах гражданского права. Делается вывод о том, что интерес является основой для дифференциации гражданско-правового регулирования обязательственных отношений.
Обязательство, интерес, интерес креди- тора, интерес должника, дифференциация гражданско-правового регулирования
Короткий адрес: https://sciup.org/142232093
IDR: 142232093
Текст научной статьи Значение интереса в обязательственных правоотношениях
Проблема понимания природы интереса в обязательстве сложна, что обусловлено многоаспектностью как самого понятия «интерес», так и такого правового явления, как обязательство.
Обязательства, известные еще римским юристам, много веков являются неотъемлемым инструментом имущественного оборота. В общем виде обязательство как особое общественное отношение пред‐ ставляет собой взаимосвязь участников социального общения, которая характеризуется наличием у одного лица права на поведение (действие / бездействие) другого.
Обязательство как правоотношение обеспечивает специфическое воздействие на участников имущественного оборота через наделение одной стороны правами требования к другой стороне. В зависимости от функциональной направленности указанное воздействие может носить как регулятивный, так и охранительный характер. Первый тип прослеживается в договорных обязательствах, второй - в обязательствах вне-договорных.
Обязательство является относительным правоотношением, права и обязанности в котором возникают исключительно между его участни‐ ками, именуемыми должником и кредитором. Сам характер такой взаимосвязи не зависит от специфики субъекта, так как обязательство, являющееся гражданско-правовым отношением, имеет присущую ему природу независимо от того, между кем оно возникает - между рядовыми гражданами или между организациями и публичными образованиями. Как справедливо указывает В.Ф. Яковлев, «равенство в общем положении субъектов гражданского права заключается в том, что они располагают принципиально равной способностью создавать права и обязанности своими действиями и не обладают способностью властного установле‐ ния прав и обязанностей других лиц» [1, с. 108.]. В этой связи в юридической литературе принято говорить о том, что в обязательственных правоотношениях реализуются интересы исключительно участвующих в них лиц, то есть частные интересы. Однако данный тезис представляется справедливым лишь при допущении некоторых уточнений.
Не всегда обязательство возникает по воле самих участников дан‐ ных отношений. Юридической науке и практике известны различные виды обязательственных правоотношений охранительного свойства, возникающих в силу определенных правовых последствий, в качестве реакции на совершение правонарушения (деликтные обязательства) или при необходимости восстановить право, нарушенное в результате события, не зависящего от воли людей (кондикционное обязательство при стихийном или случайном обогащении за счет другого лица). В данной связи актуальным становится вопрос: правильно ли утверждение, что обязательственное правоотношение всегда опосредует лишь частный интерес? Вероятно, нет.
В последние годы в научной литературе все чаще подчеркивается необходимость сочетания как частных, так и публичных интересов при осуществлении гражданско-правового регулирования [2, с. 6; 3, с. 4; 4, с. 295; 5, с. 60]. Схожая тенденция обнаруживается и в законодательстве. В частности, она прослеживается в недавних изменениях, коснувшихся институтов осуществления гражданских прав, способов их защиты, оснований недействительности сделок и др. Кроме того, названная тенденция отражается и в развитии комплексных институтов: антимонопольного законодательства, законодательства о банкротстве, законодательства о защите прав потребителей, где в последние годы приняты существенные изменения, закрепляющие правила об обеспечении публичных интересов в обязательственных отношениях (как договорных, так и внедоговорных).
Таким образом, важно понимать, что обязательство, являясь гражданским правоотношением, тем не менее опосредует не только частные, но и иные, публичные (общественные, государственные), интересы. При этом реализация каждого из них в рамках обязательственного правоотношения обладает определенной спецификой.
Согласно легальной дефиниции обязательства, закрепленной в ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в со- вместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Из данного определения буквально следует, что обязательственное отношение как особая форма социального взаимодействия служит достижению интереса управомоченной стороны. Вполне объяснимо складывается впечатление, что в односторонних обязательствах, где у одной стороны имеются лишь права, а у другой - лишь обязанности, реализуется интерес только одной стороны. Однако такой подход представляется поверхностным, поскольку не учитывает ряд важных обстоятельств.
Во-первых, в любом обязательственном отношении (в силу его относительного характера) всегда присутствуют две стороны, каждая из которых обладает собственным интересом.
О необходимости признания факта существования интересов всех участников обязательственных отношений, включая обязанную сторону, неоднократно упоминалось в юридической литературе [6; 7]. Подобный подход позволил некоторым исследователям обратить внимание на фе‐ номен кредиторских обязанностей [8, с. 187; 9, с. 145]. Их наличие не меняет существа взаимосвязей, лежащих в основе обязательственного отношения: кредитор не становится должником, а должник - кредитором. Также не изменяется и характер самой обязанности - такое обязательство из одностороннего не становится двухсторонним (в противном случае само выделение односторонних обязательств было бы поставлено под со‐ мнение). Однако признание таких прав способствует достижению цели обязательства - его надлежащего исполнения, и препятствует злоупотреблению управомоченной стороной своим правовым положением.
О справедливости признания факта существования и юридическо‐ го закрепления интересов должника в обязательстве свидетельствуют, например, нормы Федерального закона от 21 июня 2016 г. «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея‐ тельности по возврату просроченной задолженности и о внесении из‐ менений в Федеральный закон ''О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях''» о взаимодействии должника и кредитора, предоставившего обязанной стороне - должнику - дополнительные возможности (выбор формы взаимодействия, отказ от взаимодействия и др.). Схожим образом обеспечивается защита интересов за- емщиков по договорам потребительского кредита (займа) [10, с. 9; 11], которые, как правило, также являются обязанной стороной гражданских правоотношений.
Исходя из характера взаимосвязей сторон в обязательстве, очевидно, что общим в них является лишь правовой результат - приобретение имущественных благ управомоченным лицом. Однако сам характер поведения сторон различается кардинальным образом, что существенно усложняет идентификацию интереса каждого из участников и ме‐ ханизмов их реализации.
Во-вторых, представляется очевидным, что для возникновения подавляющего большинства обязательств (речь в данном случае идет о договорных обязательствах) требуется воля всех их участников. Так, обязательственные отношения, возникающие из договора купли-продажи, подряда, аренды и пр., есть результат совпадения встречной воли участников имущественного оборота, выражающей интерес каждого из них. Действия сторон таких отношений имеют целью достижение общего результата, в равной степени важного для всех. В этом смысле исполнение обязанности по такому обязательству, являясь волевым актом, приближает к достижению интереса, в том числе обязанной стороны.
Кроме того, п. 3 ст. 308 ГК РФ допускает возможность создания для третьих лиц прав в отношении одной или обеих сторон обязательства (например, в случае заключения договора в пользу третьего лица в соответствии со ст. 430 ГК РФ). Данный случай не свидетельствует о приобретении права третьим лицом вопреки его воли и интересу. Даже если стороны обязательства предусмотрели приобретение прав третьим лицом, фактическая их реализация без выражения воли последнего невозможна.
Особым является случай приобретения и реализации прав от име‐ ни другого лица в порядке представительства. Но и здесь речь не идет о возникновении обязательства вне воли и против интересов представ‐ ляемого лица, поскольку все действия, совершенные от имени другого лица в порядке представительства, создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого [12, с. 101].
Таким образом, наиболее важным в связи с вышеизложенным, на наш взгляд, является вопрос: в чем именно состоит интерес сторон обязательственного отношения и как он отражается в праве?
К сожалению, проблема понимания интереса, реализуемого в рамках обязательственного отношения, часто замалчивается исследователями, в особенности теми, кто ассоциирует интерес с субъективным правом [13] либо включает его в структуру субъективного права [14].
С этих позиций, действительно, проблемы правовой охраны интересов стороны в обязательстве не существует, поскольку они облекаются в форму субъективных прав, которые подлежат защите лишь в случае их нарушения. Однако через данное упрощение невозможно объяснить специфику правового положения обязанной стороны, которая при таком подходе вовсе лишается юридически значимого интереса.
Обязательство как правоотношение имеет определенную цель. В аспекте механизма правового регулирования через обязательственное правоотношение право воздействует на участников имущественного обо‐ рота для направления их волевого поведения на достижение конкретного результата, имеющего правовое значение (например, переход благ, ценностей, имеющих имущественный характер). Поскольку объектом обязательственного отношения являются действия (бездействие) в пользу правомочной стороны, соответствующее поведение, таким образом, представляет определенное имущественное благо. При этом, будучи имущественным отношением, обязательство фиксирует в себе ценность такого блага для его участников. Эта ценность тем выше, чем более значимым является интерес в приобретении соответствующего блага.
Данное обстоятельство легко обнаружить на примере организа‐ ции аукциона. Первоначально цена лота представляет собой объективную оценку соответствующего блага. При этом важно отметить, что действующее гражданское законодательство зачастую обязывает при опре‐ делении цены исходить именно из объективных показателей стоимости аналогичных товаров, работ и услуг. Однако, называя цену предложения, претенденты не связаны данными характеристиками. При прочих равных показателях ценность соответствующего блага для каждого из претендентов различна. Более того, участник торга может предложить стоимость, значительно отличающуюся от существующих цен на аналогичные товары, работы, услуги, что свидетельствует о том, что ценность блага при возникновении обязательства зависит не только от его объек‐ тивной экономической стоимости. Например, покупатель имущества, реализуемого с публичных торгов, которое представляет для него фа- мильную или семейную ценность, объяснимо готов предложить значительно большую цену за право на его приобретение.
Указанный пример демонстрирует также и то, что для лица, принимающего на себя обязанность в рамках обязательства, ее исполнение может иметь самостоятельную ценность, и не только имущественную. Исполнение обязательства может представлять репутационное, имиджевое либо иное значение для должника, а значит, обязательство как особая социальная взаимосвязь субъектов общественных отношений в данном смысле становится для них самостоятельной ценностью (благом), интерес в обладании которой нуждается в правовой охране.
Важно также учитывать, что в обязательственном правоотношении находят закрепление не только интересы его субъектов, но и интересы общества, санкционирующего соответствующие правила поведения. В зависимости от специфики вторых правила, регламентирующие конкретные обязательственные отношения, могут существенно отличаться.
Так, например, при регулировании обязательств по обеспечению нужд государства, несмотря на то, что отношения возникают между формально равными участниками гражданского оборота - хозяйствующими субъектами (предпринимателями, унитарными предприятиями, учреждениями и др.), делается упор на достижение главной цели обязательства - обеспечение потребности публичного образования. В потребительских отношениях с участием граждан также присутствуют осо‐ бые правила, обеспечивающие преимущественную реализацию интересов граждан-потребителей. В отношениях между предпринимателями как профессиональными участниками делового оборота акцент смеща‐ ется в сторону повышения их самостоятельности при установлении пра‐ вил исполнения принятых обязательств.
В подобных случаях в юридической литературе принято говорить о дифференциации правового регулирования. Как указывает В.Д. Рузано-ва, в современном частном праве (независимо от правовой системы) наблюдаются две противоположные тенденции: с одной стороны, оно тяготеет к дифференцированному регулированию однородных общест‐ венных отношений в зависимости от их субъектного состава, а с другой - к унификации норм частного права [15, с. 53]. Данные замечания крайне важны для целей настоящего исследования, хотя и требуют некоторой критической оценки.
Дело в том, что дифференциация гражданско-правового регулирования, по утверждению В.Д. Рузановой, зависит от субъектного состава общественных отношений, что в какой-то мере объясняется положениями действующего гражданского законодательства, предусматривающего различные правила поведения для граждан, их объединений, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
В качестве примера можно привести норму ст. 310 ГК РФ о праве одностороннего отказа от исполнения обязательств, закрепившую общее правило о возможности одностороннего отказа только в случаях, прямо предусмотренных в законе (либо ином нормативно-правовом акте), а также установившую исключения из данного правила для субъектов предпринимательской деятельности, допуская самостоятельное установление оснований для отказа сторонами обязательства. Эта же норма предусматривает особые ограничения в случае участия в обязательстве наряду с предпринимателем иного лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, предоставляя ему лишь исключительные возможности на отказ от обязательства по основаниям, предусмотренным соглашением сторон.
С одной стороны, указанный пример, действительно, наглядно демонстрирует наличие дифференцированного подхода в правовом ре‐ гулировании обязательственных отношений. С другой стороны, основа такой дифференциации, на наш взгляд, не может обусловливаться только лишь спецификой субъектного состава общественных отношений.
Во-первых, не всегда участие в имущественном обороте субъектов, обладающих общим либо специальным правовым статусом, предполагает обязательную дифференциацию правил поведения, поскольку большинство гражданско‐правовых институтов все же содержат единые требования, одинаковые для всех участников имущественных отношений. Во-вторых, в тех сферах, где дифференциация наиболее очевидна, а именно в предпринимательских правоотношениях, в последнее время явно прослеживается тенденция к отступлению от требования обяза‐ тельности приобретения специального правового статуса предпринима‐ теля для признания гражданина субъектом предпринимательства и рас‐ пространения на него особых правил поведения.
Правовой основой для такой тенденции служит норма п. 4 ст. 23 ГК РФ, закрепившая правило, не позволяющее гражданину, фактически осуществляющему предпринимательскую деятельность без обязатель‐ ной государственной регистрации в качестве индивидуального предпри‐ нимателя, ссылаться в отношении заключенных им сделок на отсутствие необходимой государственной регистрации. Нынешняя редакция данной статьи после внесения в нее изменений Федеральным законом от 26 ию‐ ля 2017 г. «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Граждан‐ ского кодекса Российской Федерации», развивая названные положения, предполагает выделение отдельных видов предпринимательской дея‐ тельности, осуществление которых возможно и без государственной ре‐ гистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
При названных обстоятельствах очевидно, что особенность субъ‐ ектного состава отношений, входящих в предмет гражданско‐правового регулирования, сама по себе не объясняет и не предполагает его диф‐ ференциации.
По нашему мнению, потребность в особой правовой регламента‐ ции детерминирована спецификой социально значимых интересов, реа‐ лизуемых в рамках указанных отношений. Так, наличие признанного и охраняемого потребительского интереса в отношениях между профес‐ сиональным участником имущественного оборота, с одной стороны, и гражданином, с другой стороны, обусловливает применение особых правил, призванных обеспечить преимущественную реализацию охра‐ няемого интереса потребителя. Преимущественная реализация интереса публичного образования в отношениях по обеспечению государственных нужд обусловливает применение специальных норм, регламентирующих заключение и исполнение контракта, применение обеспечительных мер и пр. Тем самым сходные по своей природе общественные отношения получают различное регулирование нормами права, что выражается в дифференциации гражданско‐правового регулирования.
Список литературы Значение интереса в обязательственных правоотношениях
- Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. 212 с.
- Романовский С.В. Принцип сочетания частных и публичных интересов в гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 194 с.
- Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. 363 с.
- Тужилова-Орданская Е.М. Взаимодействие частного и публичного права: методология исследования проблемы // Методологические проблемы цивилистических исследований: сб. науч. ст. Ежегодник / отв. ред.: А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М., 2017. С. 286-304.
- Гимадрисламова О.Р., Еникеева З.А. Интерес как критерий разграничения публично-правовых и частноправовых отношений // Вестник ВЭГУ. 2015. № 5 (79). С. 56-63.
- Подшивалов Т.П. Охрана интересов должника в договорном обязательстве при банкротстве и злоупотребление корпоративным контролем // Право и экономика. 2017. № 12. С. 41-45.
- Лескова Ю.Г. Способы защиты прав и интересов должника в договорных обязательствах // Власть закона. 2017. № 1. С. 47-55.
- Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: моногр. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010. 256 с.
- Гаймалеева А.Т. Гражданско-правовая охрана интереса должника в договорном обязательстве: дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2017. 182 с.
- Федулина Е.В. Гражданско-правовая защита прав заемщика по договору потребительского кредита (займа): автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2015. 25 с.
- Ахтямова Е.В. К вопросу об особенностях договора потребительского кредита // Актуальные вопросы университетской науки: сб. науч. тр. Уфа, 2016. С. 46-53.
- Муратова А.Р. О соотношении материального и процессуального представительства // Актуальные проблемы частного права в свете модернизации гражданского законодательства Российской Федерации: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию юридического образования в Республике Башкортостан / отв. ред. Е.М. Тужилова-Орданская. Уфа, 2014. С. 101-105.
- Мотовиловкер Е.Я. Гражданское право на защиту как право на присуждение или исковое право требования к правонарушителю. (Миф о едином субъективном праве) // Lex Russica. 2016. № 11. С. 9-21.
- Ульянов А.В. Категория юридического интереса в свете неоконцепции гражданского права (часть 2) // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6. С. 100-108.
- Рузанова В.Д. Дуализм частного права как проявление дифференциации правового регулирования // Вестник Омского университета. Сер.: Право. 2017. № 2 (51). С. 52-57.