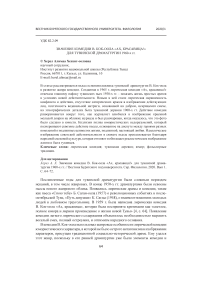Значение комедии В. Кок-Оола «Ах, красавица!» для тувинской драматургии 1960-х гг
Автор: Херел Алимаа Хензиг-Ооловна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вклад основоположника тувинской драматургии В. Кок-оола в развитие жанра комедии. Созданная в 1965 г. лирическая комедия «Ах, красавица!» отвечала главному пафосу тувинских пьес 1930-х гг. - показать жизнь простых аратов в условиях новой действительности. Новым в ней стали лирическая окрашенность конфликта и действия, отсутствие сатирических красок в изображении действующих лиц, поэтичность водевильной интриги, основанной на добром, искрящемся смехе, на этнографических деталях быта тувинской деревни 1960-х гг. Действие комедии разворачивается вокруг того, как журналист влюбился в изображение красивой молодой доярки на обложке журнала и был разочарован, когда оказалось, что это фото было сделано в юности. Коллизии полны юмористических недоразумений, который подчеркивают сквозное действие пьесы, основанное на диспуте между героями разных поколений о подлинных ценностях жизни, подлинной, настоящей любви. Идиллическое изображение советской действительности в сюжете пьесы преодолевается благодаря народной смеховой культуре, которая оттеняет и обогащает реалистическое изображение жизни и быта тувинцев.
Лирическая комедия, тувинская деревня, юмор, фольклорные традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/148316608
IDR: 148316608 | УДК: 82.2.09
Текст научной статьи Значение комедии В. Кок-Оола «Ах, красавица!» для тувинской драматургии 1960-х гг
Херел А. Х. Значение комедии В. Кок-оола «Ах, красавица!» для тувинской драматургии 1960-х гг. // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 64–72.
Послевоенные годы для тувинской драматургии были сложным периодом исканий, в том числе жанровых. В конце 1950-х гг. драматургами были освоены пьесы нового жанрового облика. Появились лирические драмы и комедии, такие как пьеса «Спою тебе» Б. Саган-оола (1957) о революционных событиях в послеоктябрьской Туве, «Путь девушки» К. Сагды (1958), о взаимоотношениях молодых людей в любовном треугольнике. В 1959 г. была написана лирическая комедия В. Кок-оола «Ах, красавица», которая была воспринята критиками как «светлое, полное юмора и лирики произведение о жизни новой Тувы» [4, с. 64]. Появление комедии легкого лирического содержания объяснялось необходимостью выразить веселый смех, полный остроумия, и оптимизм народного сознания.
В комедии В. Кок-оола использовал жанровые особенности лирической комедии юмористического характера, в которой не было острого антагонизма в изображении характеров, присущая традиционной социально-исторической драме. Ему удался этот жанр, поскольку в его ранней драматургии уже были элементы комедии и драмы, наполненной мягким юмором. В новой пьесе проявилась эта способность драматурга использовать в действии юмористическую окраску действия, чтобы выйти на такие особенности национального характера, как вкус к игре, театральности, свойственные жанрам тувинского фольклора. Драматург стремился показать духовное развитие простых аратов в условиях новой жизни. В пьесе «Ах, красавица!» также можно увидеть это стремление, но уже приправленное лирической окрашенностью конфликта и действия, отсутствие сатирических красок в изображении действующих лиц, поэтичность водевильных ситуаций, счастливого их разрешения в финале. И хотя пьеса не избежала упреков в пресловутой бесконфликтности, несомненна ее новаторская роль в жанровом обновлении тувинской драматургии, в поиске новых форм воплощения современной действительности. Ее значение существенно и с точки зрения будущего развития тувинского театра и драматургии, того музыкально-драматического направления, которое было развито В. Кок-оолом.
В основе коллизии в лирической комедии часто лежат легкие недоразумения и заблуждения. Так, исследователь якутской комедии М. Кириллина подчеркивала лирическое начало в этом жанре, заключающееся, по ее мнению, в том, что «конфликт и способ его художественной реализации подчинены жанровой доминанте — юмору», а в сюжетно-композиционном развитии действия особую роль играет «введение песенных куплетов, лирических стихов» [1, с. 74, 76]. Именно такие атрибуты данного жанра можно встретить в пьесе В. Кок-оола «Ах, красавица!».
В постановке театра пьеса приобрела вид музыкальной комедии, где веселые мелодии и танцевальные ритмы сопровождают основное действие. Приехавший из города журналист не смог сфотографировать торопящуюся на дойку знатную доярку и смог только выпросить давнее фото из семейного альбома, поскольку других снимков у той не имелось. Этот снимок на газетной полосе увидел студент, влюбился в изображение молодой, пригожей доярки и на мотоцикле отправился познакомиться с нею, но пережил потрясение, когда увидел перед собой пожилую женщину. Она, засмеявшись, не успела объяснить молодому человеку причину метаморфозы, потому что в дверях появилась ее дочь, как две капли похожая на ту, что на газетном снимке, — и обрадованный студент ахнул: «Ах, красавица!», после чего следует счастливая развязка. Таков был незамысловатый сюжет в спектакле по этой пьесе, о котором писала В. Ц. Найдакова [2, с. 64 ], и благодаря новой для тувинской драматургии интриге, основанной на добром, искрящемся смеху, а также этнографических деталям быта тувинской деревни он доставлял удовольствие зрителю, утолял его жажду простодушия и доброты, радостной атмосферы музыкально-развлекательного характера.
В 1965 г. драматург создал и опубликовал новый вариант комедии, где был более проработанный сюжет, воспроизводивший новые эпизоды и новых персонажей. В первом действии были введены муж героини-доярки, ее старшая дочь со своим женихом, во втором действии, происходящем в московском студенческом общежитии, — друг героя-студента и эпизодический персонаж — библиотекарь. В третьем действии происходит встреча двух друзей — выпускников сельскохозяйственного института, приехавших работать агрономом и ветеринарным врачом в том колхозе, где проживает семья героини. В действии станет участвовать ее младшая дочь, как две капли воды похожая на свою мать. Долгожданная встреча, сначала принесшая разочарование, обернется надеждой на будущую любовь, — таков финал и нового варианта пьесы В. Кок-оола. Юмористическая коллизия постепенно преображается, уступает место лирическому действию, и пьеса приобретает черты лирической драмы. Но благодаря доминанте — юмору пьеса не перестает быть лирической комедией, творчески разработанной В. Кок-оолом и имеющей несомненную новизну для национальной литературы.
В первом действии корреспондент, приехавший к известной своими высокими надоями доярке Дарый, просит у нее фотографию для статьи о ней. И если ее муж Тамба почтительно относится к городскому посетител. словом «дарга» (т. е. начальник), то у Аянмы, дочери доярки, он вызывает насмешку: «Корреспондент — а без фотоаппарата». Влюбленный в Аянму табунщик Сыдым-оол, торопясь к своим лошадям, проникает в комнату Аянмы через окно, но затем вынужден спрятаться в шифоньер, чтобы не удивлять вошедшего Тамбу, который, по словам дочери, находится «под градусом» и, уходя, захлопнет приоткрытую дверцу шкафа на замок, вынудив дочь бежать к матери за ключами. Вновь вошедший на шум Тамба замечает: «Странно, выпил я, а шатается шкаф». Подобными юмористическими эпизодами наполнены все три действия пьесы.
Но особенно много их в конце первого действия: наступает ночь, но не удается уснуть ни Дарие, ни корреспонденту. Не хочет заснуть Аянма, боясь пропустить свидание с женихом Сыдым-оолом. Для этого она принимает его предложение нанизать на свой палец нитку, другим концом привязанную к оконной раме, чтобы любимый, вернувшись с кормления лошадей, дернул за нее точно так же, как он делает, привязывая к руке аркан, чтобы пробудиться по движению коня. Таким образом аркан заставляет пробудиться хозяину и указать на опасность отхода табуна. Но нитку девушка завязывает к ножке стула, и двигающийся стул по приходу табунщика зашевелится, будит сначала Дарию, которая отхлещет влюбленного, приняв его за бычка под окном, а затем запутавшегося даргу-корреспондента, которого Сыдым-оол, приняв в темноте за Аянму, обнимет и будет нашептывать слова любви. Поняв свою ошибку, влюбленный юноша ретируется, и действие продолжится разговором под окном разбуженной Аянмы и корреспондента.
«Корреспондент ( держит в руках нитку ). Вероятно, это аркан табунщика, а также его личный телефон.
Появляется Аянма.
Аянма ( узнав корреспондента ). Это вы, дарга , а я-то думала корова об раму чешется.
Корреспондент. Коров здесь нет. Мы с табунщиком беседовали о жизни <…> В аркане запутался <…> Аркан на шею попадет при любой темноте <…>
Аянма. Я не помешала, дарга … Мне кажется, вы о чем-то думаете…
Корреспондент. Нет, нет, сестренка …» [3, с. 31–32].
Проснувшиеся Тамба с Дарией по-разному истолкуют ночной разговор: муж примет его за свидание молодых людей, а жена успокоится, услышав, как мужчина называет ее дочь сестренкой («…значит между ними ничего опасного нет »). И наконец, действие закончится свиданием двух влюбленных, которому уже никто не мешает.
С передовой дояркой Дарией и ее семьей зритель знакомится в первом действии. А влюбленный в ее портрет, вернее, портрет 24-летней давности, который напечатан уже на обложке популярного журнала «Огонек», главный герой — студент-выпускник московского института по имени Томур-оол появится в начале второго действия, где признается своему другу по общежитию — Даш-оолу в своей любви и желании ехать работать на родину, в колхоз, где проживает изображенная на фото девушка. Комедия выстраивается по канонам драматического жанра — узнавания и неузнавания, откровения и заблуждения, действительного и несуществующего. В их столкновении и возникает основа для комедийных ситуаций и шутливых импровизаций. Два молодых тувинца — Төмүр-оол и Даш-оол поздравляют друг друга с окончанием института и пока не знают, что, приехав в тот колхоз, где, как они считают, работает эта красавица-доярка, узнают, что Дария — действительно передовая доярка, но не молодая девушка, а пожилая женщина, многодетная мать. Все произойдет из-за недоразумения – корреспондент не выполнил обещания (то ли специально, то ли в спешке, — неясно), данного Тамбе, — воспроизвести на фото женщину постарше.
В пьесе «Ах, красавица!», таким образом, нет острого противопоставления хороших и плохих людей, отсутствуют какие-либо идейные противоречия. Тем не менее, в ней все построено на контрасте: и это не только противопоставление первого и второго действий в решении темы «село — город». Главной идейной коллизией можно назвать следующее противопоставление: воображаемое чувство любви к девушке – реальная любовь, показной патриотизм – настоящая любовь к родине. Потому что за внешней, кажущейся бесконфликтной ситуацией скрывается серьезный конфликт, уведенный в подтекст и придающий пьесе серьезное социальное звучание.
Так, в отношениях двух друзей-выпускников можно увидеть контраст настроений — жизнелюбия и романтической устремленности Томур-оола, с одной стороны, и скептицизма Даш-оола — с другой. При общности мировоззрения в их образах может наблюдаться разность темпераментов. В то же время грусть, недовольство, страхи первого (которые не могут долго тревожить) и веселый задор, блестящее остроумие второго могут даже меняться местами, поскольку объединяет двух героев на протяжении всего действия общее настроение жизнелюбия. То есть контрасты, возникая, тут же исчезают.
Жизнь студенческой столичной молодежи не заключает в себе каких-либо причин для драматизма, и сельская жизнь изображена как некая идиллия: каждый из героев любит свою профессию, мечтает совершенствоваться в ней. Так, Аян-ма с радостью едет на курсы повышения квалификации поваров, а ее жених Сыдым-оол, страдая от будущей разлуки, сдерживает свои порывы ради заботы и любви к своему табуну, своему Гнедку, у которого «передние ноги — “Волга”, а задние — “Чайка”», и не теряет оптимизма.
В настроениях молодых героев преобладает воодушевление от радости окончания учебы. Радостью жизни, задором молодости овеяно их стремление победить все жизненные препятствия, что выражено в диалогах и монологах пьесы. И одним из достоинств пьесы является настроенность на игру, только так можно скрасить томительное ожидание двумя друзьями встречи с реальной девушкой, изображенной на портрете.
Комедия с характерными чертами мягкого тувинского юмора развивается согласно основному приему «легкой» комедии — недоразумениях и непонимании между действующими лицами. А также незнанию ситуаций и обстоятельств, которое и даст комический эффект в третьем действии, когда возникнет комическое разногласие с Тамбой, мужем Дарии. Непонимание молодыми людьми в незнакомой обстановке становится поводом для иронии. Тогда как острота основного комедийного положения достигается в финале: Томур-оол не до конца понимает, что его любовь к портрету неизвестной девушки возникает в результате ошибочного представления, принимая это чувство за настоящую любовь, т. е. герой сам вводит себя в заблуждение. И эта игра в любовь происходит в пьесе не ради игры, а ради утверждения высокой авторской идеи.
Все комические недоразумения, даже развлекательного характера (так, юноша-герой собираясь идти купаться, произносит слова «пойду брошусь в воду», а Тамба воспримет в них другой, трагический смысл), возникают из стремления драматурга создать высокий, поэтичный настрой комедийной пьесы. В ней тема любви решается по законам поэзии, что подчеркнуто в речи героев в игре с поэтичными выражениями, которые обретают символический смыл. Например, такие слова. как «сердце» и «аркан» окажутся вначале смешными каламбурами, за которыми вскроется иной смысл. Окажется, что сердце «болит» от «горячего» чувства у Сыдым-оола, его «заарканила» Аянма, зато у корреспондента и Даш-оола сердца не задеты, о чем свидетельствует их спокойное отношение к девушке-красавице со словом «сестренка». От придуманной любви Томур-оола отличается подлинное чувство Сыдым-оола, потому что в его словах, поступках, движениях души присутствует голос сердца. Так поэтическая тема сопровождает целый ряд комических ситуаций.
Переживания Томур-оола трогательно искренни, несмотря на юмористическую форму, в которую они облекаются. Доминирующим в самочувствии героя остается его вера в свои силы. Он не утрачивает жизнерадостности, даже когда в нем радость будущей встречи борется со страхом и сомнением: как я ее найду? а если она уже замужем? если она меня отвергнет? Да еще Даш-оол подзадоривает, произнеся угрозу, что он начнет ухаживать за возлюбленной друга, когда они ее найдут. Или лукаво скажет: «Стоит ли арканить нерожденного жеребенка?» Правда, затем он же находит, чем успокоить расстроенного друга: если бы она была замужем, то в журнальной статье было бы указано отчество, да и слишком юна на фото эта красавица. Успокоенный Томур-оол пускается в игру, когда воображает, что его мечта сбылась и он «с Дарией» женит друга на ее сестренке, если та имеется, сыграют свадьбу. Друг поддерживает игру, они поют старинную свадебную песню, танцуют, дурачатся. Игровое отношение к любви героя продолжится с появлением библиотекаря Верой, которая требует вернуть журнал с фотографией на обложке, но остановлена высокопарными словами Томур-оола о том, что он любит до самозабвенья, всем сердцем, и молодая женщина пугается, когда он не отдает журнал, грозя «вырезать» — что «вырезать», не понимает только она.
Ясно, что все разговоры, шутки, розыгрыши друзей — это веселая игра. Комизм этой игры все время подчеркивается в дружеской перепалке молодых людей. Вот Томур-оол говорит: «Надо бы девушкой родиться, и все парни были бы моими!» , на что друг замечает: «Что же ты не завлек всех девушек?» . А на веселую усмешку 68
Даш-оола, что он вдруг начнет ухаживать за Дарией, герой так же весело урезонивает друга: «Ты этого не делай. Это грех твой будет. Во-первых, я старше тебя на год, во-вторых, я первый увидел ее фото. Ты это не моги! Можешь ее называть тетушкой Дарией! Разрешаю» [3, с. 35].
Игра продолжается, а она по законам жанра должна закончиться, когда начнется настоящая жизнь, которая излечит от заблуждений, вымысла, разыгравшегося воображения.
Понятно, что легкая развлекательная комедия уязвима для тех, кто стремится «нагрузить» ее серьезными, значительными проблемами, т.е. требует от нее того, что противоречит ее природе. Все дело в оригинальном решении «легких» коллизий. Оригинальное решение темы любви в пьесе раскроется в финале, предоставляющем драматургу возможность не только усилить ее комедийное звучание, но и раскрыть ее более глубокое решение. Происходит «узнавание» героем своей «Дарии». До последней минуты он ждет ее прихода на праздник в честь дня рождения Даш-оола, пока Тамба не откроет правду. А до этого он с подсказки друга будет предполагать ее в образе юной Белек. Затем разочарование героя не принесет драматических переживаний, потому что становится ясно, что сердце его вовсе не задето.
«Төмүр-оол (взволнованно): Дорогие гости... Сегодня мой лучший друг Даш-оол именинник <…> Получилось не очень красиво. Мы с Дарией не узнали друг друга. За это простите нас (обращается к дочери Дарии Белек). А сейчас поднимем заздравную чашу за дорогого моего друга Даш-оола.
Тамба : Я должен внести некоторую ясность. Вы обознались. (Указывает на Белек). Она не Дария, а Белек, дочь Дарии. А Дария (указывает на жену) вот она!
Төмүр-оол (присел): Вот так история » [Пьесы, с. 47].
Обладателями же сердечного, т. е. настоящего, чувства станут те, кто составил две пары влюбленных в пьесе: это не только молодые Аянма и Сыдым-оол, но и возрастные Тамба и Дария.
Рядом с любовной коллизией драматург выводит другую, так как важной ценностью для него и его героев является дружба. Линия взаимоотношений Томур-оола и Даш-оола также преследует серьезную цель автора пьесы, усиливая ее высокий смысл. Во втором действии герои много говорят о любви к родной Туве, усиленной разлукой, тоской по ней во время учебы. Жизнерадостность героев только подчеркнет это высокое чувство, поэтическое ее звучание. Молодые люди по-разному выражают свое сокровенное чувство, при этом ничуть не фальшивя: Даш-оол подчеркнуто высоким «штилем» говорит о будущей встрече с родиной, а Томур-оол, в противовес восклицаниям друга о труде ради родной Тувы, простыми и поэтичными словами доносит свое счастливое ожидание будущей встречи с родными местами:
«Томур-оол. И мы едем домой. Нам Саяны своими темно-зелеными шляпами помашут, мы снова увидим змейку-дорогу, которая хитроумно петляет, как будто от кого-то убегает, увидим синее око Енисея, родные сердцу места. Да, да, мы с тобой, мой друг, счастливы вполне...
Даш-оол. Радостно сознавать, что таких, как мы, тысячи. Человек у нас решает все. На него главный упор. Миллионы людей своим трудом делают народ свой великим.
Томур-оол. У нас с тобой сердца сегодня бьются в унисон » [Пьесы, с. 33].
Несмотря на уверенность, что оба героя говорят в унисон, различие в их репликах существенное, потому что в словах Томур-оола дважды встречается слово «сердце», которое и придает его словам ореол настоящего чувства, и ура-патриотическим словам друга противостоят слова, пронизанные подлинной любовью.
Этот контраст сознательно подчеркивается драматургом, потому что все действие направлено на внутреннее противопоставление, составившее не просто поэтический подтекст, а сквозную поэтическую мысль. Он как бы предлагает зрителям принять участие в ее раскрытии, недаром дважды использует условный прием: обращение молодых героев в зал [3, с. 36, 39]. Герои пьесы, по замыслу В. Кок-оола, должны пройти путь, чтобы узнать подлинную цену чувству любви, будь то любовь к женщине или любовь к родине.
Так общая юмористическая тенденция пьесы отчетливо переходит в диспут о подлинной, настоящей любви, о серьезном понимании жизни. Обнаружится, что таким пониманием, как никто, обладают простые люди – это прежде всего пожившие и много испытавшие Тамба и Дария, в речи которых нет любовных признаний, зато много привычных подтруниваний и шуток.
Блестяще используя комедийные ситуации «розыгрыша», В. Кок-оол связывают с этими образами юмористическое восприятие жизни. Так, на вопрос корреспондента о том, сколько детей у них, Дария отвечает: «…детей у нас вот с этим молодцом пятеро». Идет следующий диалог:
«Тамба. Женушка, что с тобой? Ведь у нас шесть ребятишек, шесть. (К корреспонденту.) В яслях шестой наш малышок.
Дария. …да я о нем совсем забыла… » [Пьесы, с. 24–25].
Дария подхватывает шутку мужа, в которой заключена доля истины, ведь для нее Тамба — что малый ребенок. В юмористическом восприятии окружающего мира сказывается их непоказная любовь друг к другу как сила, способная преодолеть все сложности и невзгоды жизни. Светлые оптимистические тона в пьесе звучат в таких эпизодах.
Атмосфера импровизации, характерная для лирической комедии, продолжается в финальном действии с приходом другой супружеской пары. Аянма уже закончила поварские курсы. Она произносит фразу: «Вы больше никого не ждете?» , на которую не получает ответа, да он и не нужен. А Сыдым-оол тоже обращается к Даш-оолу с подразумеваемым подтекстом: «Доктор, мы с вами должны работать в контакте. Вы ветврач, я табунщик… Без аркана лошадь не поймаешь… В день рождения я вам дарю кожаный аркан» [3, с. 47]. Именно Тамбе — самому старшему своему персонажу драматург поручает в финале заключить: «Ну, выпьем за именинника и за счастливую жизнь, которую мы делаем своими руками… За вас, наши сыны и дочери!» [3, с. 48]. Этот праздничный тост также имеет свой подтекст-обобщение, подводящий итог авторской мысли об активной, деятельной работе «отцов» и «детей» в строительстве своего счастья.
Так с подкупающей правдивостью раскрывается большое гуманистическое содержание комедии. Романтика молодости, вера в большие идеалы сочетаются в пьесе В. Кок-оола с трезвым реализмом, рождает особый стиль спектакля, в котором ноты меланхолии соседствуют с утверждающим началом, простое — с высокопарным, а смешное не становится гротеском. В этом и заключается сущность того мягкого юмора, пронизывающего всю пьесу и выражающего философское отношение к жизни. Этой мыслью и определяется тонко и точно разработанный рисунок сквозного действия пьесы, посвященной большой и человечной идее о подлинных ценностях жизни.
Комедия В. Кок-оола может быть рассмотрена как очередной пример соцре-алистической эстетики: идеализация советской действительности — сельской и городской, а активные действия героя приводят благополучному финалу. Кроме того, Көк-оол не спешит уходить от возможностей фольклорной поэтики, чтобы преодолеть идиллическое изображение советской действительности. Ведь сюжет пьесы мог быть навеян мотивами тувинской волшебной сказки «Балыкчы Багай-оол» («Рыбак Багай-оол»), где герой, влюбленный в свою невесту, носит ее фотографию даже на рыбалку. Естественно, она не дает ему полноценно рыбачить — герой больше смотрит на фото невесты. И вдруг поднявшийся ветер уносит фото любимой. Имеющаяся перекличка с традициями народной смеховой культуры в пьесе «Ах, красавица!» оттеняет и обогащает реалистическое изображение жизни тувинцев.
В комедии В. Кок-оола преодолевается такой недостаток тувинской драматургии, как обязательная приверженность набившему оскомину конфликту добрых сил на стороне нового мира и ярых, бескомпромиссных сторонников старого мира. Дело в том, что все действие пронизано жизнеутверждающим оптимизмом автора, который искренне верит в установившийся социальный порядок, приносящий только добрые начала и которому нет надобности акцентировать темные стороны жизни, но и не нужны приукрашивания, чтобы правдиво воплотить на сцене правду жизни.
Список литературы Значение комедии В. Кок-Оола «Ах, красавица!» для тувинской драматургии 1960-х гг
- Кириллина М. А. Якутская комедия: типология и жанровая динамика. Новосибирск: Наука, 2014. 116 с.
- Найдакова В. Ц. Тувинский театр: учеб. пособие. Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 1999. 159 с.
- Пьесы. Кызыл, 1966.
- Хадаханэ М. А. Беседы о тувинской литературе и не только.. Кызыл: Тув. кн. изд-во, 2006. 144 с.