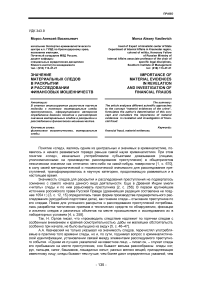Значение материальных следов в раскрытии и расследовании финансовых мошенничеств
Автор: Мороз Алексей Васильевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются различные научные подходы к понятию «материальные следы преступления», сформулировано авторское определение данного понятия и рассмотрено значение материальных следов в раскрытии и расследовании финансового мошенничества.
Финансовое мошенничество, материальные следы
Короткий адрес: https://sciup.org/14931278
IDR: 14931278 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Значение материальных следов в раскрытии и расследовании финансовых мошенничеств
Понятие «след», являясь одним из центральных и значимых в криминалистике, появилось и начало развиваться гораздо раньше самой науки криминалистики. При этом понятие «след», изначально употребляемое субъектами доказывания (лицами, уполномоченными на производство расследования преступления) в общепринятом лексическом значении как отпечаток чего-либо на какой-нибудь поверхности [1, с. 670], в силу своей методологической и гносеологической значимости для расследования преступлений, трансформировалось в научную категорию, продолжающую развиваться и в настоящее время.
Значимость следов для раскрытия и расследования преступления не подвергалось сомнению с самого начала данного вида деятельности. Еще в Древней Индии умели «читать» следы и по ним разыскивать преступника [2, с. 258]. В первом крупнейшем источнике российского права Русской Правде (древнейшая редакция составлена не позднее 1054 г.) [3, с. 12, 15] определялась такая форма производства предварительного расследования (досудебной подготовки дела), как гонение следа – отыскание преступника по его следам. Позже для успешного раскрытия и расследования преступлений потребовалась разработка тактических приемов и технических средств по обнаружению, фиксации и изъятию следов и различных объектов на месте происшествия и исследованию их в лабораторных условиях [4, с. 258].
Так, Н. Орлов писал, что «производить следствие надлежит по горячим следам с особенным вниманием и крайней осмотрительностью, дабы ни малейших обстоятельств, особенно при начале, не было выпущено из виду» [5, с. 46–47].
А.А. Квачевский не только указывал на значимость следов, перечислял употребляемые в практике того времени следы, но и, по сути, поднимал вопрос о криминалистической идентификации, установлении связей между элементами расследуемого преступного события. «Одним из лучших указателей на известное лицо, – писал он, – служат следы его пребывания на месте преступления, они бывают весьма разнообразны: следы ног, рук, пальцев, сапог, башмаков, лошадиных копыт, разных мелких вещей, принадлежащих известному лицу; следы бывают тем лучше, чем более дают определенных указаний, чем отличительнее они, чем более в них чего-либо особенного, например отпечатков разного сорта гвоздей на подошвах, след копыта лошади, кованной на одну ногу; здесь точное измерение, то есть определение тождественности вещей с тождественностью лица, может повести ко многим указаниям» [6, с. 201].
В.И. Лебедев, соотнося значимость свидетельских показаний и следов, писал: «Наиболее же ценные показания, часто сразу раскрывающие преступления, – дают так называемые «немые свидетели» из видимых или даже неразличимых простым глазом следов, оттисков, «лишних предметов», обнаруженных на месте преступления и по пути следования преступника. А эти «немые свидетели» в то же время и свидетели самые неподкупные!» [7, с. 191].
В 1913 году (!) уже используется термин «материальные следы преступления»: «С того момента, как будущее поколение юристов уже на университетской скамье начнет знакомиться с принципами криминалистики, начнется новая эра в истории расследования преступлений, новая эра уголовного процесса, опирающегося не на свидетельские показания и не на сознание обвиняемого, а на материальные следы преступления, на реалии уголовного процесса» [8, с. 75–78].
Завершим приведенную историческую галерею мнений высказыванием Томаса Гексли, в котором он в образной форме поднимает основную гносеологическую проблему процесса расследования преступлений, состоящую в том, что любое расследование является ретроспективным: «Полицейский открывает преступника по следам его шагов таким же точно умственным процессом, каким Кювье восстановил образ исчезнувших животных Монмартра на основании одних только отпечатков от их костей» [9, с. 35].
Е.П. Никитин по этому поводу пишет: «Исследователь живет и работает в мире настоящего. Только в этом мире он может черпать материал для познания как прошлого, так и будущего... Настоящее хранит в себе следы прошлого и зачатки будущего. Именно эти следы прошлого и являются тем отправным объективным материалом, на котором основывается ретросказательное исследование... исходными данными.
Установление исходных данных – первый, подготовительный этап в структуре процесса ретросказательного исследования, представляющий собой его эмпирический уровень. На этом этапе создается база для последующего – абстрактно-теоретического – уровня ретросказания. Предметы, описываемые в исходных данных, существуют в настоящее время и сами по себе еще не позволяют проникнуть в прошлое, преодолеть «барьер», отделяющий настоящее от прошлого. Средством преодоления этого «барьера» является теория или, конкретнее, закон науки, представляющий собой отражение в научных понятиях закона реальности... Закон науки выполняет ретросказательную функцию благодаря тому существенному свойству, что он инвариантен относительно времени (то есть верен для всех предметов в настоящем, прошлом и будущем)» [10, с. 35].
Действительно, финансовое мошенничество к моменту расследования, а тем более судебного разбирательства, является событием прошлого и может быть познано только благодаря его отражению в окружающей обстановке, которое в криминалистике традиционно называют следами. Они объективно существуют как результат взаимодействия преступления с материальным миром [11, с. 49]. Следы, которые преступник оставляет в процессе совершения финансового мошенничества, – это результат его взаимодействия с окружающими телами. Для следователя, ведущего расследование, это данные, несущие информацию о произошедших событиях [12, с. 162]. Материальные следы являются «отпечатками» события [13, с. 115]. Следы – это «временной мост», соединяющий прошлое, когда было совершено финансовое мошенничество, с настоящим, когда осуществляется его расследование.
При этом возможности интерпретации следов в процессе доказывания постоянно расширяются. «Знание механизма образования следов, их классификации, – отмечал И.И. Пророков, – позволяет судить о способе совершения определенных действий, результатом которых данные следы являются, и об особенностях объектов, образовавших эти следы» [14, с. 7]. Г.Г. Зуйков считал, что «следы определенного способа совершения преступления указывают не только на совершенные действия, но и на обстоятельства, детерминировавшие способ совершения преступления, определившие состав и характер совершенных действий; в частности, по характеру совершенных действий представляется возможным предположительно судить об определивших способ совершения преступления качествах личности» [15, т. 1, с. 57].
Криминалистику, писал Р.Г. Домбровский, образно называют наукой о следах, так как изучение механизма образования следов преступления и работа следователя (суда), связанная с их обнаружением и анализом, составляют ее основу. Данное положение не утратило своего значения и в настоящее время: предпосылкой раскрытия каждого преступления выступают оставляемые им разнообразные следы [16, с. 74].
Еще одним подтверждением сказанного является тот факт, что на различных этапах эволюции криминалистики как науки следы и закономерности их образования и исследования являлись обязательным элементом ее предмета.
Так, Б.М. Шавер формулировал его следующим образом: «Криминалистика изучает приемы и методы совершения преступлений, следы, остающиеся в результате совершения преступных действий или оставляемые преступником, и данные естественных и технических наук в целях приспособления всего этого к задачам расследования преступлений» [17, с. 66].
В определении, данном М.С. Строговичем, «следы» являются основным и, по сути, единственным криминалистическим элементом предмета – «научные приемы обнаружения и исследования вещественных доказательств и следов преступлений, приемы, заимствованные из естественных и технических наук и приспособленные к использованию при расследовании преступлений» [18, с. 6].
Принятое в настоящее время большинством ученых-криминалистов данное Р.С. Белкиным определение криминалистики как «науки о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [19, с. 59] также содержит рассматриваемую категорию «след», хотя и опосредованно – через категории «информации» и «доказательства».
Современное понятие «следа», прочно и бесспорно утвердившееся в настоящее время в криминалистике, определяется с позиции всеобщего свойства материи – отражения.
«Всякое событие, – как отмечал В.И. Корюкин, – связано с изменениями в окружающей среде. Изменения в среде предшествуют наступлению события, наступление события, в свою очередь, вызывает изменения в окружающей среде... Для того чтобы узнать о событии, мы должны выделить связанные с ним изменения. Связь изменений с событием существует объективно» [20, с. 42, 43]. Р.С. Белкин писал: «Я пришел к твердому убеждению, что концептуальная философская категория отражения составляет философский, теоретический и практический фундамент криминалистики, что эта категория охватывает фактически все направления криминалистической науки и многие другие философские категории, используемые в ней» [21, с. 49]. Событие преступления есть один из материальных процессов действительности, а поэтому находится в связи и взаимообусловленности с другими процессами, событиями и явлениями, отражается в них и само выступает отражением каких-то процессов [22, т. 1, с. 124].
В криминалистической науке следом преступления является часть информации (материальной или идеальной), объективно возникающая в результате преступления на всех стадиях его совершения (приготовления, исполнения, сокрытия), применительно к которой имеются научно обоснованные, практически проверенные и допустимые средства, приемы и методы ее обнаружения, извлечения, исследования, использования и оценки [23, с. 29–30].
С гносеологической точки зрения, считал Р.С. Белкин, следами преступления являются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления. По нашей классификации, эти изменения могут быть двух видов: идеальные («отпечатки» события в сознании людей) и материальные («отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события). Механизм возникновения идеальных изменений и сами эти изменения как мысленные образы в сознании людей – участников или посторонних наблюдателей события – являются объектом исследования криминалистики лишь отчасти, поскольку криминалистика черпает основные данные об этих процессах из психологии (общей и судебной), физиологии и других наук о человеке. В полном объеме криминалистическими объектами являются материальные изменения среды, и именно они составляют содержание понятия «следы преступления» [24, т. 2, с. 39].
Вслед за Р.С. Белкиным О.Я. Баев также к первым относит отпечатки события в сознании, памяти людей, совершивших преступление и (или) к нему прикосновенных
(например, укрыватели преступления и т. п.), потерпевших от преступления, очевидцев, других свидетелей и т. д., и именует их «интеллектуальными» или «памятными» следами, а ко вторым – отпечатки события на любых материальных объектах: предметах, документах, теле и (или) организме потерпевшего, обстановке события и т. д. [25, с. 57].
Р.С. Белкин следующим образом определял преимущества материальных следов по сравнению с идеальными:
-
– обладают большей устойчивостью; содержащаяся в них информация более устойчива при воздействии на нее процессов рассеивания информации;
-
– менее подвержены воздействию субъективных факторов, обладают, как правило, большей объективностью;
-
– доступны для непосредственного рассмотрения, воспроизводимы в эксперименте;
-
– напрямую связаны с событием причинно-следственными отношениями;
-
– труднее фальсифицируются [26, с. 65].
Первым попытку дать криминалистическое определение материальных следов преступления сделал И.Н. Якимов: «…все те материальные изменения, какие происходят в обстановке места происшествия, в окружающей среде и в предметах, связанных с событием преступления» [27, с. 108]. Вместе с тем ему же принадлежит и более узкое определение: «Следом называется отпечаток на чем-нибудь предмета, позволяющий судить об его форме или об его назначении» [28, с. 44].
С.М. Потапов под следами вообще понимал, по сути, материальные следы – «отражения на материальных предметах признаков явлений, причинно связанных с расследуемым событием. Следы могут возникать от людей, отдельных предметов и от действия сил природы» [29].
Б.И. Шевченко придерживался такого же мнения: «Для обозначения всех самых разнообразных и разнохарактерных материальных изменений, которые обязаны своим происхождением тем или иным действиям преступника, связанным с совершением преступления во всех его стадиях, пользуются в криминалистике обобщающим и охватывающим все эти изменения названием – следы преступления» [30, с. 4]. При этом в рамках разработанного им учения о следах (трасологии) он ограничился рассмотрением следов-отображений. След-отображение – это отображение на одном материальном объекте внешнего строения другого материального объекта [31, с. 13].
Многие авторы в своих исследованиях отмечали важность для расследования преступлений различных следов, понимаемых как любые материально-фиксированные изменения среды, а не только следов-отображений.
Так И.Ф. Крылов, являясь сторонником данной точки зрения, считал, что «ограничение содержания учения о следах лишь следами-отпечатками может повредить практике» и что учение о следах «должно включать в себя как учение собственно о следах (отображениях), так и учение об изменениях, проявляющихся на месте преступления, на жертве или на самом преступнике в результате воздействия последнего» [32, с. 7], «для раскрытия преступления и изобличения преступника пятна крови, образовавшиеся от пореза преступником пальца, или отслоение пыли, принесенной на подошве обуви, имеют порой не меньшее значение, чем отпечатки пальцев и прочие следы в узком смысле слова» [33, с. 7].
И.И. Пророков вслед за Г.Л. Грановским [34, с. 7], отмечал, что «наряду с внешним строением в... следах находят известное отображение и некоторые иные свойства следообразующего объекта, а также условия и механизм самого следообразования» [35, т. I, с. 214].
В.С. Сорокин под следами преступления подразумевает «всевозможные материальные изменения в окружающей обстановке, связанные с совершенным преступлением. Эти изменения могут выражаться в перемещении предметов или веществ, отсутствии или наличии их в определенном месте, потере или приобретении каких-либо свойств» [36, с. 3].
Приведенные суждения нашли свое развитие в статье Е.Е. Центрова. Он пишет: «Ограничение содержания понятия «трасология» лишь следами-отображениями внешнего строения объекта ограничивает тактический и идентификационный кругозор следственных, оперативных работников и экспертов» [37, с. 35], «по существу, следы являются отражением факта взаимодействия объектов, их связи между собой и связи с проис- шедшим событием. Идентификация объектов по их следам выступает в качестве одного из средств установления этой связи» и формулирует следующее авторское определение следа в широком смысле «как отображение факта взаимодействия, связи объектов между собой и с расследуемым событием, а также особенностей их внешнего строения, внутренней структуры, внешних и внутренних качеств и свойств» [38, с. 34].
Наиболее удачными, с нашей точки зрения, хотя и не бесспорными являются определения материальных следов, сформулированные Р.Г. Домбровским: «Материальные следы – это отражение события преступления или его обстоятельств на предметах, в обстановке. Последнее основано на способности материальных тел реагировать на воздействие других тел своими внутренними изменениями и внешним ответным воздействием» [39, с. 75]. «Материальные следы – это остаточные от события преступления явления, характеризуемые низшими формами отражения на уровне механических, физических или химических процессов» [40, с. 77].
В философии различают отражение в неживой и живой природе. Сущность первого заключается в свойстве объектов материального мира воспроизводить под воздействием других материальных объектов «такие следы, отпечатки, реакции, структура которых находится в соответствии с какими-либо сторонами воздействующих вещей» [41].
В живой природе отличительной чертой отражения является его применение отражающими объектами для «самосохранения, самоприспособления» и, в соответствии с уровнем организации живой материи, оно эволюционирует от допсихической формы – раздражимости (у растений и простейших организмов) до психических форм – ощущения и восприятия (у животных и человека), определяемых деятельностью нервной системы и мозга [42; 43]. Допсихическая форма отражения в живой природе хотя и имеет более сложный механизм реализации, чем отражение в неживой природе, но имеет объективную основу. Например, комнатное растение, находясь на постоянном месте, будет расти в направлении источника света – «тянуться» к нему, и изменение его положения можно будет установить по несоответствию расположения источника света (окно) и формы, расположения элементов растения (стебли, листья).
Исходя из сказанного, считаем возможным с криминалистических позиций разделить все формы отражения по критерию объективности на два вида: 1 – материальное отражение, включающее в себя отражение в неживой природе и допсихическую форму отражения в живой природе; 2 – психическое отражение в живой природе.
Предложенное деление форм отражения считаем целесообразным использовать в качестве естественного основания деления следов в криминалистике соответственно на материальные и идеальные.
Проникновение в юридические науки, и в криминалистику в частности, идей теории информации естественным образом отразилось и на учении о следах. В криминалистике появилось направление, представители которого процесс следообразования рассматривают как информационный, а последствия совершенного преступления именуют информацией [44, с. 75]. Термин «информация» (лат. information – разъяснение, изложение) обычно означает: некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний [45]; сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами; сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь [46, с. 232].
Помимо приведенных ранее «традиционных» определений в криминалистической литературе имеется целый ряд различных определений «материальных следов преступления», в которых авторы помимо категории отражения используют категорию «информация».
Так, А.В. Васильев определяет материальные следы как объективную информацию о событии преступления и личности преступника, которая может быть исследована и идентифицирована естественно-научными методами (по следу рук, ног, крови, слюны, следам нарезки на оболочке пули и т. п.) [47, с. 517].
По мнению Н. С. Полевого, результатом взаимодействия материальных объектов «являются отображения, а данные, образующие их содержание, – информацией... при такой концепции информации под данными, образующими содержание отображения, понимаются любые реальные изменения любой природы» [48, с. 35].
В.Я. Колдин и Н.С. Полевой считают, что «рассматриваемые с позиции теории информации материальные следы представляют не что иное, как кодированные сообще- ния, сигналы информации о расследуемом преступлении» [49, с. 33]. Подобной точки зрения, что материальные следы преступления являются знаком, который в свою очередь выступает носителем информации, придерживались многие авторы [50, с. 31; 51, с. 74; 52, с. 52; 53, с. 30–34; 54, с. 12; 55, с. 20; 56, с. 197–228; 57].
Сторонники этой точки зрения, по существу, отождествляют отражение и информацию, считают, что материальные следы преступления представляют собой единство содержания – информации, т. е. сведений о чем-либо, – и материальной формы, что, по мнению Р.Г. Домбровского, находится в противоречии с выводами теории познания о том, что «в предмете нет знания, но в результате изучения его возникает знание о нем» [58, с. 17]. Он определяет отождествление материальных следов преступления с информацией как логическую ошибку, именуемую подменой тезиса. Исходные посылки при этом вытекают из присущего материи свойства отражения и потенциальной возможности объективного познания реальности и возражений не вызывают: 1) предметы или вещи являются материальными следами преступления ввиду некоторых их свойств или состояний, вызванных совершенным преступлением; 2) свойства или состояния предмета позволяют судить познающим субъектам о фактах, с которыми они связаны.
Подмена тезиса, считает Р.Г. Домбровский, – и мы с ним полностью солидарны, – состоит в синтезируемом выводе, что свойства или состояния предмета не что иное, как «сведения», «данные» или «информация», т. е. знания. Таким образом, знания, выработанные субъектом познания при его обращении к материальным следам преступления, необоснованно приписываются самим следам [59, с. 75–76].
Высоко оценивая вклад Р.С. Белкина в разработку теории данного вопроса, С.А. Шейфер писал: «Можно считать, что следы выступают как результат «первичного отражения» события в окружающей среде. Они являются объективной основой уголовнопроцессуального познания,так как позволяют уполномоченному государственному органу, изучив следы и зная закономерности их образования, умозаключить о породившем их либо иначе связанном с ним событием. Однако следы – это еще не доказательства. Чтобы стать таковыми, они должны быть восприняты субъектом доказывания с соблюдением надлежащей процедуры, отображены в его сознании, преобразованы (перекодированы) им и в таком измененном виде закреплены в материалах дела» [60, с. 34; 61, с. 26].
Обобщая сказанное, на основе анализа существующих представлений о материальных следах преступления можно предложить следующее определение: материальные следы преступления – это результаты материального отражения свойств взаимодействующих в ходе преступной деятельности материальных объектов, исследование которых позволяет формировать доказательственную информацию об отдельных обстоятельствах совершенного преступления.
Ссылки:
-
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973.
-
2. Майлис Н.П. О некоторых научных и процессуальных проблемах судебной экспертизы // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. № 4.
-
3. Тушканов И.В. Государство и право Руси IX в. – первой трети XVI в. Волгоград, 2003.
-
4. Майлис Н.П. Указ. раб.
-
5. Орлов Н. Опыт краткого руководства для произведения следствий. М., 1833.
-
6. Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. Часть II. СПб., 1867.
-
7. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений.
-
I. Дактилоскопия. СПб., 1909. С. XII.
-
8. Б. Р. Двадцатилетие криминалистики // Журнал уголовного права и процесса. 1913. № 4.
-
9. Розин М.М. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914.
-
10. Никитин Е.П. Метод познания прошлого // Вопросы философии. 1966. № 8.
-
11. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе оперативно-разыскной деятельности.
Список литературы Значение материальных следов в раскрытии и расследовании финансовых мошенничеств
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973.
- Майлис Н.П. О некоторых научных и процессуальных проблемах судебной экспертизы//«Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. № 4.
- Тушканов И.В. Государство и право Руси IX в. -первой трети XVI в. Волгоград, 2003.
- Орлов Н. Опыт краткого руководства для произведения следствий. М., 1833.
- Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. Часть II. СПб., 1867.
- Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. I. Дактилоскопия. СПб., 1909. С. XII.
- Б. Р. Двадцатилетие криминалистики//Журнал уголовного права и процесса. 1913. № 4.
- Розин М.М. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914.
- Никитин Е.П. Метод познания прошлого//Вопросы философии. 1966. № 8.
- Доля Е.А. Формирование доказательств на основе оперативно-разыскной деятельности. М., 2009.
- Ишин А.М. Информационные аспекты раскрытия и расследования преступлений в современных условиях и их реализация в трудах профессора Р.С. Белкина//Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики: материалы международной научной конференции. М., 2002. С. 162.
- Ткачев С.Е. Синхронная стереофотометрия как криминалистический метод фиксации объектов на месте происшествия//«Черные дыры» в Российском законодательстве. 2007. № 2.
- Пророков И.И. Общие положения трасологии//Криминалистическая экспертиза. Вып. 6, разд. 8. М., 1968.
- Зуйков Г.Г. Методологическое значение изучения способов совершения преступлений//Криминалистика: учебник для юрид. вузов МВД СССР. М., 1969.
- Домбровский Р.Г. Следы преступления и информация//Правоведение. 1988. № 3.
- Шавер Б.М. Предмет и метод советской криминалистики//Соц. законность. 1938. № 6.
- Труды Военно-юридической академии Красной Армии. М., 1942. Вып. 2.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987.
- Корюкин В.И. Вероятность и информация//Вопр. философии. 1965. № 8.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. М., 1997.
- Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. М., 2006.
- Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 2001.
- Якимов И.Н. Криминалистика: руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925.
- Якимов И.Н. Осмотр. М., 1935.
- Краткий юридический словарь. М., 1945.
- Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., 1975.
- Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии. М., 1947.
- Крылов И.Ф. Следы на месте преступления. Л., 1961.
- Грановский Г.Л. Основы трасологии. М., 1965.
- Криминалистика. М., 1969.
- Сорокин В.С. Обнаружение и фиксация следов на месте происшествия. М., 1966.
- Центров Е.Е. Следы как отражение взаимосвязи объектов и их связи с происшедшим событием//Вестник криминалистики. Вып. 1 (3). 2002.
- Философский словарь/под ред. И.Т. Фролова. М., 1987.
- Спиркин А.Г. Отражение//БСЭ. М., 1973.
- Васильев А.В. Юридическая психология. М., 2002.
- Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1982. M., 2009.
- Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka. M., 1973.
- Maylis N.P. O nekotoryh nauchnyh i protsessu-al'nyh problemah sudebnoy ekspertizy//«Chernye dyry» v Rossiyskom zakonodatel'stve. 2004. No. 4.
- Tushkanov I.V. Gosudarstvo i pravo Rusi IX v. -pervoy treti XVI v. Volgograd, 2003.
- Orlov N. Opyt kratkogo rukovodstva dlya proizvedeniya sledstviy. M., 1833.
- Kvachevskiy A.A. Ob ugolovnom presledovanii, doznanii i predvaritel'nom issledovanii prestupleniy po sudebnym ustavam 1864 g. Pt. II. SPb., 1867.
- Lebedev V.I. Iskusstvo raskrytiya prestupleniy. I. Daktiloskopiya. SPb., 1909. P. XII.
- B. R. Dvadtsatiletie kriminalistiki//Zhurnal ugolovnogo prava i protsessa. 1913. No. 4.
- Rozin M.M. Ugolovnoe sudoproizvodstvo. SPb., 1914.
- Nikitin E.P. Metod poznaniya proshlogo//Voprosy filosofii. 1966. No. 8.
- Dolya E.A. Formirovanie dokazatel'stv na osnove operativno-razysknoy deyatel'nosti. M., 2009.
- Ishin A.M. Informatsionnye aspekty raskrytiya i rassledovaniya prestupleniy v sovremennyh usloviyah i ih ryealizatsiya v trudah professora R.S. Belkina//Rol' i znachenie deyatel'nosti R.S. Belkina v stanovlenii sovremennoy kriminalistiki: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. M., 2002. P. 162.
- Tkachev S.E. Sinhronnaya stereofotometriya kak kriminalisticheskiy metod fiksatsii obektov na meste proisshestviya//«Chernye dyry» v Rossiyskom zakonodatel'stve. 2007. No. 2.
- Prorokov I.I. Obschie polozheniya trasologii//Kriminalisticheskaya ekspertiza. Issue. 6, par. 8. M., 1968.
- Zuykov G.G. Metodologicheskoe znachenie izucheniya sposobov soversheniya prestupleniy//Kriminalistika: uchebnik dlya yurid. vuzov MVD SSSR. M., 1969.
- Dombrovskiy R.G. Sledy prestupleniya i informatsiya//Pravovedenie. 1988. No. 3.
- Shaver B.M. Predmet i metod sovetskoy kriminalistiki//Sots. zakonnost'. 1938. No. 6.
- Trudy Voenno-yuridicheskoy akademii Krasnoy Armii. M., 1942. Issue 2.
- Belkin R.S. Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Obschaya i chastnaya teorii. M., 1987.
- Koryukin V.I. Veroyatnost' i informatsiya//Vopr. filosofii. 1965. No. 8.
- Belkin R.S. Kriminalistika: problemy segodnyashnego dnya. M., 2001.
- Belkin R.S. Kurs kriminalistiki: in 3 vol. M., 1997.
- Suvorova L.A. Idyeal'nye sledy v kriminalistike. M., 2006.
- Baev O.YA. Osnovy kriminalistiki: kurs lektsiy. M., 2001.
- Yakimov I.N. Kriminalistika: rukovodstvo po ugolovnoy tehnike i taktike. M., 1925.
- Yakimov I.N. Osmotr. M., 1935.
- Kratkiy yuridicheskiy slovar'. M., 1945.
- Shevchenko B.I. Teoreticheskie osnovy trasologicheskoy identifikatsii v kriminalistike. M., 1975.
- Shevchenko B.I. Nauchnye osnovy sovremennoy trasologii. M., 1947.
- Krylov I.F. Sledy na meste prestupleniya. L., 1961.
- Kriminalistika. M., 1969.
- Sorokin V.S. Obnaruzhenie i fiksatsiya sledov na meste proisshestviya. M., 1966.
- Tsentrov E.E. Sledy kak otrazhenie vzaimosvyazi obektov i ih svyazi s proisshedshim sobytiem//Vestnik kriminalistiki. Issue 1 (3). 2002..
- Filosofskiy slovar'/ed. by I.T. Frolov. M., 1987.
- Spirkin A.G. Otrazhenie//BSE. M., 1973.
- Vasil'ev A.V. Yuridicheskaya psihologiya. M., 2002.
- Polevoy N.S. Kriminalisticheskaya kibernetika. M., 1982.
- Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. М., 1985.
- Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 1999.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. Закон и право. М., 2001.
- Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика. М., 2004.
- Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: вопросы и ответы. М., 2002.
- Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2004.
- Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. М., 2004.
- Дорохов В.Я. Понятие доказательства//Теория доказательств в советском уголовном процессе: 2-е изд./отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973.
- Вахтомин Н.К. Генезис научного знания. М., 1973.
- Шейфер С.А. Роль Р.С. Белкина в разработке методологии доказывания по уголовному делу//Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики: материалы междунар. научн. конф. М., 2002.
- Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009.
- Koldin V.Y., Polevoy N.S. Informatsionnye protsessy i struktury v kriminalistike. M., 1985.
- Belkin A.R. Teoriya dokazyvaniya. M., 1999.
- Belkin R.S. Kurs kriminalistiki. Zakon i pravo. M., 2001.
- Aver'yanova T.V., Belkin R.S., Koruhov Y.G, et al. Kriminalistika. M., 2004.
- Agafonov V.V., Filippov A.G. Kriminalistika: voprosy i otvety. M., 2002.
- Shuruhnov N.G. Kriminalistika. M., 2004.
- Yablokov N.P. Kriminalistika v voprosah i otvetah. M., 2004.
- Dorohov V.YA. Ponyatie dokazatel'stva//Teoriya dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom protsesse: 2nd ed./executive ed. N.V. Zhogin. M., 1973.
- Vahtomin N.K. Genezis nauchnogo znaniya. M., 1973.
- Sheyfer S.A. Rol' R.S. Belkina v razrabotke metodologii dokazyvaniya po ugolovnomu delu//Rol' i znachenie deyatel'nosti R.S. Belkina v stanovlenii sovremennoy kriminalistiki: materialy mezhdunar. nauchn. konf. M., 2002.
- Sheyfer S.A. Dokazatel'stva i dokazyvanie po ugolovnym delam: problemy teorii i pravovogo regulirovaniya. M., 2009.