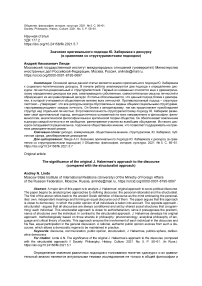Значение оригинального подхода Ю. Хабермаса к дискурсу (в сравнении со структуралистским подходом)
Автор: Линде А.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
Основной целью данной статьи является анализ оригинального подхода Ю. Хабермаса к социально-политическому дискурсу. В начале работы анализируются два подхода к определению дискурса: личностно-рациональный и структуралистский. Первый из названных относится еще к древнегреческому определению дискурса как ума, охватывающего собственные, самостоятельные смыслы личностей и образующего из них равноправный дискурс. В статье обосновывается, что данный подход ближе к демократии, в которой учитывается общественное мнение всех личностей. Противоположный подход - структуралистский - утверждает, что все дискурсы всегда обусловлены и заданы общими социальными структурами, «программирующими» каждую личность. Он ближе к авторитаризму, так как предполагает преобладание структур над отдельной личностью. В противоположность структуралистскому подходу Ю. Хабермас развивает свой оригинальный подход, методологически основанный на трех направлениях в философии: феноменологии, аналитической философии языка и критической теории общества. Он обеспечивает вовлечение в дискурс каждой личности и ее свободное, равноправное участие во всеобщем обсуждении. Из такого дискурса складывается рациональное, подлинное общественное мнение, что позволяет поддерживать на практике демократический режим.
Дискурс, коммуникация, общественное мнение, структурализм, ю. хабермас, публичная сфера, делиберативная демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/149134961
IDR: 149134961 | УДК: 177.2 | DOI: 10.24158/fik.2021.5.7
Текст научной статьи Значение оригинального подхода Ю. Хабермаса к дискурсу (в сравнении со структуралистским подходом)
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ,
of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Определение значения различных подходов к толкованию понятия «дискурс» и их сравнительный анализ являются актуальными темами исследования не только в общей философии и филологии, но и в современной политической философии. В античной классической философии и современной французской структуралистской и постструктуралистской философии были предложены различающиеся и во многом противоположные подходы к значению термина «дискурс» и пониманию его сущности, отразившиеся в следующих дефинициях:
-
1) от греч. Διεξοδος – путь, изложение, рассказ, лат. discoursus – беседа, аргумент, разговор;
-
2) от франц. discourse – речь.
Различные варианты перевода также имеют значение для конкретного понимания особенностей данных подходов.
В то же время значимой проблемой представляется то, что на данный момент наиболее распространенным и принятым подходом к определению сущности дискурса является не субъективноличностный подход, а объективистски-внеличностный, сформированный в структурализме, а затем раскрытый в постструктуралистской и постмодернистской философии. Сначала этот подход определялся в филологии в первой половине XX в., далее – в философии в 60–70-е гг. XX в.
Другая традиция понимания дискурса сформирована в классической философии, начиная с античности. Согласно ей дискурс представляет собой процесс постепенного, последовательного, рационального и логичного мышления, направленного на научное обсуждение и разностороннее изучение какого-либо предмета. Дискурс понимается как «метод познания, основанный на рассудочном, рациональном, построенном на логике постижении истины» [1, с. 537].
Кроме того, в подходе классической философии к дискурсу особенно важной является его составляющая, выраженная в учении Плотина как представителя неоплатонизма. В свою триаду он включал Единое, Ум и Мировую душу. Но в состоянии Ума Плотин выделял всеобщий, целостный, нечастичный, неиндивидуальный единый ум и ум дискурсивный, в своем движении охватывающий все личностные, отдельные смыслы. Представляется, что особенно важной составляющей такого дискурсивного ума, способного объединить все отдельные смыслы в их разносторонности и многообразии, должен стать указанный Аристотелем процесс обсуждения: всеобщего, в котором представлены все граждане как личности – носители индивидуальных смыслов, а также длительного, всестороннего, доказательного. Так, Аристотель писал, что базовое взаимодействие личностей – это «общение ради какого-либо блага» [2, с. 15], поэтому политика – это общение, стремящееся «к высшему из всех благ..., оно является наиболее важным... обнимает... все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим» [3, с. 15].
Следовательно, данный подход к дискурсу предполагал выявление глубинных смыслов каждой личности и их полноправное объединение во всеобщем дискурсе. Таким образом, данный подход близок к демократии, способной услышать каждого гражданина и включить его точку зрения в общее общественное мнение.
По своей сути противоположный личностно-рациональному подходу к дискурсу подход был разработан во французской структуралистской философии. Он утверждал существование вне-личностных, «объективных» структур. В рамках этого подхода структура определяется как нечто «целое, образованное взаимозависимыми и взаимообусловленными элементами таким образом, что каждый элемент может быть тем, чем он является только в отношении с другими элементами» [4, с. 77]. Так, один из основателей структурализма Фердинанд де Соссюр утверждал, что язык преобладает над речью: детерминированная речь строится «как индивидуальное исполнение правил языкового кода» [5, с. 77]. Поэтому дискурс определялся им как вербально артикулированная форма объективации содержания сознания, регулируемая доминирующими в той или иной социокультурной традиции структурами языка, рациональности и т. д. Таким образом, в данном подходе общее, структурное преобладает и доминирует над личностным.
Проблема в том, что в наиболее распространенной структуралистской трактовке понятия «дискурс» не отражается личностный смысл, вкладываемый говорящим в его «текст», но постулируется существование некоторых общих, объективных дискурсивных структур, конструирующих форму высказываний индивидов и детерминирующих их определенное содержание. Но идея об изначальной структурной детерминированности человеческих высказываний приводит и к исследовательским проблемам: некоторому «замкнутому кругу» для объяснения первичной природы и оснований языка и коммуникации. Так, это критически утверждает В.И. Медведев: если «эта структура – в основании любого языка, то не может быть метаязыка для ее описания... Подобная структура была бы всеобщим условием любой нашей духовной деятельности» [6, с. 267]. Как утверждает Г.К. Косиков, «внутренняя логика структурализма едва ли не с неизбежностью ведет к поглощению личности структурами» [7, с. 80], игнорирует «коммуникативную ситуацию, адресованность любого социального “текста”, требующую учитывать не только его отправителя, но и получателя сообщения, а также общий для них контекст» [8, с. 80].
Этот подход был развит в постструктуралистских работах М. Фуко. Он применил анализ обезличенных дискурсивных структур к изучению политических практик управления обществом.
Исследователь полагал, что подобный детерминирующий дискурс также служит структурной организации обезличенной «микрофизики власти». Формой такой микрофизики власти, начиная с эпохи модерна, являются контролирующие личность «дисциплинарные общества».
Логика структуралистского подхода может быть проиллюстрирована следующим примером. М.М. Фёдорова пишет, что «политические идеи представляют собой необходимые компоненты воспроизводства общества со всеми присущими ему структурами неравенства и насилия» [9]. Таким образом, понимание М.М. Фёдоровой входит, по сущности, в общую логику структуралистского направления, развивающего принцип воспроизводства государственной идеологии, защищающей довлеющее положение существующей государственной власти.
Это указывает на особенную теоретико-философскую и практическую значимость противоположного подхода к определению политического дискурса. Он был развит также и в работах Ю. Хабермаса, основывавшегося скорее на первом, «классическом», древнегреческом понимании дискурса.
В оригинальном подходе Ю. Хабермаса к трактовке данного понятия он творчески перерабатывает, развивает и синтезирует положения различных направлений современной философии: герменевтико-феноменологического, аналитической философии языка, критической теории общества.
Рассмотрим их основные положения, чтобы лучше осознать смысл, вкладываемый Ю. Хабермасом в понятие дискурса.
-
1. Герменевтико-феноменологический подход к диалогу, нормам и ценностям его участников
Ю. Хабермас применяет ключевую концепцию феноменологии - понятие жизненного мира, который с точки зрения норм и ценностей определяется как совокупность представлений самих людей о себе и окружающем мире, религиозных убеждений, ценностей и норм, которые уже изначально заданы в жизненном опыте человека. И именно через восприятие этих субъективных ценностей, идеалов человек тем или иным образом интерпретирует окружающую его действительность. Важно, что эти представления, ценности, ставшие основой для разных личностных и социально-групповых интерпретаций, не зависят от «научных... констатаций» [10, с. 176]. Это позволяет выявлять именно личностное начало коммуникации в дискурсе и изучать субъективные смыслы, вкладываемые в «текст» его участниками.
Отталкиваясь от идей феноменологии и перенося их на практический уровень исследования, Гарольд Гарфинкель экспериментально доказал, что человек всегда действует осмысленно и исходит из некоторого глубокого смысла в своей жизни, и именно в соответствии с субъективными интерпретациями он конструирует («Из этого эксперимента становится ясно, что мы, очевидно, не можем выдержать, если мир не в порядке. Социальная реальность непрерывно конструируется нами так, что она сама производит смысл» [11, с. 118]) и «конституирует» определенное видение окружающей действительности.
Для раскрытия понятия дискурса особенно важны основные принципы коммуникации, предлагаемые в герменевтическом подходе Х.-Г. Гадамера:
-
1. Методология, ориентированная на понимание и интерпретацию, а не на техническое, считающееся абсолютно объективным точно-научное изучение коммуникации.
-
2. Качественное понимание коммуникации, смысла сообщаемого в диалоге текста.
-
3. Субъект-субъектный равноправный диалогический подход к коммуникации.
-
4. Стремление субъектов коммуникации к взаимопониманию и принятию точки зрения другого.
-
2. Аналитическая философия языка как основание формально-прагматических правил дискурса
В этом также проявляется отличие герменевтического подхода от структуралистского понимания дискурса.
Основываясь на положениях аналитической философии, Ю. Хабермас разрабатывает прагматические правила коммуникации, ставшие основой оригинальной модели формальнопрагматического дискурса.
Такими принципами политической коммуникации в модели «идеальной речевой ситуации» являются:
-
1. Все потенциальные участники дискурса обладают правом начать дискурс по проблематичным социальным вопросам и далее продолжить его.
-
2. Участники могут равноправно представить свои точки зрения, аргументировать их и критически опровергнуть другие.
-
3. Участники искренни относительно «своих установок, чувств и намерений» [12, с. 92], своего «внутреннего мира».
-
4. На точки зрения участников не влияют «внешние принуждения» реальности: социальное положение граждан, их влиятельность, а учитывается только обоснованность самого аргумента.
Такой дискурс стремится к общему нахождению гражданами истины. Процессу достижения истинного знания служит «непринуждающее принуждение... лучшего аргумента» [13, с. 41], когда утверждения участников дискурса должны удовлетворять:
-
1) притязаниям на истинность по отношению к внешнему миру;
-
2) притязаниям на правильность по отношению к нормам общества;
-
3) притязаниям на правдивость по отношению к субъективным переживаниям во внутреннем мире.
-
3. Утверждение цели критической теории – эмансипации общественного сознания – в модели дискурса Ю. Хабермаса
Также высказывания участников должны быть построены по грамматическим правилам языка, быть правильными и понятными окружающим людям.
Таким образом, ученый предлагает формально-прагматический подход к дискурсу, основанный на прагматических правилах обсуждения. В целом, в понимании Ю. Хабермаса дискурс имеет следующее определение: это «особый идеальный вид речевой коммуникации» [14, с. 537], осуществляемый в рамках исторически социокультурного жизненного мира той или иной исторической эпохи, в «максимально возможном отстранении от социальной реальности, авторитетов, интересов, мотиваций и т.д., которое позволяет сформулировать никем не оспариваемый минимум проблем и решений, а также критически обсудить взгляды и намерения участников политического общения» [15, с. 537].
Необходимо отметить, что реализация этой модели дискурса связана со значимыми нормативно-ценностными целями. Важно, что направленность принципов этой модели дискурса на выражение как можно большего спектра точек зрения, процесс всестороннего аргументированного обсуждения, обоснование способности людей к ценностному взаимопониманию, сближению точек зрения, «вовлечению Другого», одновременно личностному и всеобщему утверждению консенсуса, показывает, как может быть восстановлен прежний, классический философский подход к дискурсу. С определенной точки зрения, эти принципы служат реализации «античной» модели дискурса Плотина, представляющей все отдельные личностные смыслы, переживаемые людьми.
Так, при прояснении не единственного мнения, а максимально широкого спектра аргументированных точек зрения формируется подлинная картина действительности, достигается общее, интерсубъективное знание общества. Это подтверждено и в работах Ларри Сасскайнда, неоднократно доказывавшего, что на практике возможно разрешать конфликты и достигать консенсуса, обоюдовыгодного для всех сторон: «Вы хотите получить всю возможную информацию относительно обсуждаемого вопроса, чтобы... постепенно собрать всю картинку. Потому что вам нужен не просто результат, а хороший результат » [16, с. 23].
Важно, что модель «идеальной речевой ситуации» не только несет в себе идеально-нормативные критерии справедливого политического дискурса, но и обладает практико-исследовательским значением (например, для современного дискурс-анализа). С одной стороны, Ю. Хабермас предполагает, что модель «идеальной речевой ситуации» сложно полностью реализовать в действительности. Но в целом она обладает и исследовательским потенциалом, так как позволяет осуществить сравнительный анализ существующих социально-политических обсуждений по критериям идеальной речевой ситуации. Это позволяет выявить, насколько в реальной коммуникации были восприняты или искажены справедливые правила для формирования общественного консенсуса (одним из примеров подобных работ может послужить данное исследование публичных слушаний в РФ [17]).
Модель идеальной речевой ситуации обладает также значимым практическим смыслом. Он выражается в том, что на основе модели могут быть разработаны новые формальные и неформальные институты демократии, публичной политики, максимально приближенные к ней. С нашей точки зрения, примером подобного применения некоторых принципов модели является партисипаторное бюджетирование: соучастие граждан в справедливом распределении части муниципального бюджета социально значимым проектам. Например, применяется принцип «повторяемости... процедур обсуждения» [18, с. 82], стремящийся обеспечить «рассмотрение мнения всех сторон» [19, с. 82], соответствующий первому и второму принципам «идеальной речевой ситуации». Также утверждение, что в «рамках встреч... граждан должны присутствовать определенные формы публичного обсуждения» [20, с. 7], отражает принцип достижения консенсуса только путем всестороннего согласования аргументированных точек зрения.
Таким образом, Ю. Хабермас разработал оригинальный подход к дискурсу как сохраняющему личные, глубокие представления и убеждения людей в диалоге. По его мнению, дискурс служит освобождению людей от довлеющей идеологии и восстановлению изначальных, справедливых общественных отношений. Этот подход основан на понимании, что человеческое сознание и переживаемые им идеи обладают самостоятельной значимостью, суверенной природой, создавая интерсубъективный «жизненный мир» общества. Эти представления, нормы и ценности людей должны защищаться и развиваться, рационализироваться для сохранения жизненного смысла соединения людей, их личного существования, развития общества, «жизненного мира». Этому также служит институциализация «публичной сферы» как сферы, в которой возможно решение социальных проблем, осуществляется формирование общественного мнения, «коммуникативное производство легитимной власти» [21, s. 203].
Ю. Хабермас определяет следующие правила функционирования публичной сферы:
-
1. Диалог внутри гражданского общества направлен на минимизацию роли бюрократических решений и «сведение структурных конфликтов интересов от абсолютных к стандарту всеобщего интереса» [22, p. 235], который все в целом и каждый в частности могут признать.
-
2. Установление «подходящих взаимоотношений между бюрократическими решениями и квази-парламентскими обсуждениями» [23, p. 234] становится возможным благодаря процедуре социально-политической коммуникации.
-
3. Диалог критически ориентирован на социальные проблемы.
-
4. Диалог, направленный на снижение числа единоличных властных решений, стремящихся обеспечить только узкие частные интересы, и достижение интересов всего общества в целом, должен закончиться определением общественного консенсуса.
В отличие от концепции дисциплинарного общества М. Фуко, подобный политический дискурс становится основой для модели делиберативной демократии Ю. Хабермаса (от англ. deliberate –обдумывать, обсуждать). Это оригинальный подход к демократии, согласно которому для сохранения изначальных нормативных принципов классической демократии нужно расширить власть гражданского общества и его влияние на государственную администрацию при помощи процедуры рационального диалога. Такая дискуссия должна быть «информированной, сбалансированной, сознательной, независимой и всесторонней» [24, p. 285].
Постановления власти должны, прежде чем будут приняты, пройти проверку рациональным дискурсом – обсуждением со стороны граждан. Рациональный, универсальный дискурс способен вовлечь все стороны, интерес которых затрагивается поставленным вопросом; дискурс подчиняется высказываемой аргументации, а не государственному, экономическому принуждению, приводит к определению общего блага всего общества. Коммуникация не берет один источник в административной власти, а развивается по множеству равноправных источников в гражданском обществе. Это позволяет выявить мнение всего общества в целом и каждого гражданина в частности, что обеспечивает поддержку подлинной демократии.
Таким образом, существенными чертами подхода Ю. Хабермаса к политическому дискурсу являются:
-
1. Следование традиции классической философии, в которой дискурс определяется как рациональное обсуждение чего-либо между людьми.
-
2. Раскрытие личностных, субъективных предпочтений и смыслов его участников – граждан общества, а не объективных, доминирующих дискурсивных структур, связанных с государственной идеологией.
-
3. Направленность на поиск истины и согласование приемлемого для всего общества консенсуса.
Рассмотренная модель политического дискурса Ю. Хабермаса легла в основу его концепции делиберативной демократии, что указывает на ее практическую значимость.
Список литературы Значение оригинального подхода Ю. Хабермаса к дискурсу (в сравнении со структуралистским подходом)
- Мир политической науки: в 2 кн. / А.Ю. Мельвиль [и др.]. Кн. I. Категории. М., 2004. 796 с.
- Аристотель. Политика. М., 2015. 318 с.
- Там же.
- Косиков Г.К. Структурализм // Современная западная философия. М., 2009. С. 77-80.
- Там же. С. 77.
- Медведев В.И. Философия языка: очерки истории. СПб., 2012. 336 с.
- Косиков Г.К. Указ. соч. С. 80.
- Там же.
- Фёдорова М.М. Политические идеи в публичном пространстве современной России [Электронный ресурс] // Институт стратегических оценок и анализа. URL: http://www.isoa.ru/art-view.php?bc_tovar_id=999 (дата обращения: 12.05.2021).
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в феноменологическую философию. СПб., 2013. 494 с.
- Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, № 1. С. 114-138.
- От критической теории к теории коммуникативного действия. Эволюция взглядов Ю. Хабермаса. Тексты / сост. А.Я. Алхасова. Ульяновск, 2001. 150 с.
- Назарчук А.В. От классической критической теории - к теории коммуникативного действия (смена парадигмы в социальной теории) // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1993. № 4. С. 36-43.
- Мир политической науки... С. 537.
- Там же.
- Сасскайнд Л., Шамликашвили Ц., Демчук А. Менеджмент трудных решений в XXI веке: секреты построения консенсуса, или как сделать так, чтобы довольны были все. М., 2009. 208 с.
- Линде А.Н. Обоснование нового подхода к критическому дискурс-анализу: кейс публичных слушаний в РФ // Дискурс-Пи. 2019. № 3 (36). С. 63-77. https://doi.org/10.24411/1817-9568-2019-10305.
- Вагин В.В., Гаврилова Н.В., Шаповалова Н.А. Анализ и систематизация лучшей российской и зарубежной практики вовлечения граждан в бюджетные инициативы // Инициативное бюджетирование в Российской Федерации. Выпуск 1. М., 2015. С. 38-153.
- Там же. С. 82.
- Кросс-национальные модели гражданского участия: кейс партиципаторного бюджетирования / И. Сентомер [и др.] // Инициативное бюджетирование в Российской Федерации. Выпуск 1. М., 2015. С. 5-37.
- Habermas J. Die Moderne - ein Unvollendetes Projekt: Philosophisch-politische Aufsätze 1977-1990. Leipzig, 1990. 254 s.
- Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, 1989. 301 p.
- Ibid. P. 234.
- Fishkin J., Luskin. R. Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion // Acta Politica. Stanford, 2005. Р. 284-298.