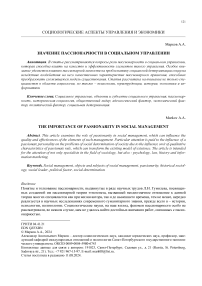Значение пассионарности в социальном управлении
Автор: Марков А.А.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики
Статья в выпуске: 5 (149), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы роли пассионарности в социальном управлении, которая способна влиять на качество и эффективность элементов такого управления. Особое внимание уделяется влиянию пассионарной личности на проблематику социальной детерминации социума вследствие воздействия на него качественных характеристик пассионарного правления, способных преобразовать сложившуюся модель существования. Статья рассчитана на внимание не только специалистов в области социологии, но также - психологии, юриспруденции, истории, экономики и информатики
Социальное управление, объекты и субъекты социального управления, пассионарность, историческая социология, общественный лидер, идеологический фактор, экономический фактор, политический фактор, социальная детерминация
Короткий адрес: https://sciup.org/148331357
IDR: 148331357
Текст научной статьи Значение пассионарности в социальном управлении
Понятие и толкование пассионарности, выдвинутые в ряде научных трудов Л.Н. Гумилева, посвященных созданной им пассионарной теории этногенеза, вызвавшей неоднозначное отношение к данной теории многих специалистов как при жизни автора, так и до нынешнего времени, тем не менее, нередко реализуется в научных исследованиях современного гуманитарного знания, прежде всего в – истории, психологии, политологии. Социологические науки, на наш взгляд, феномен пассионарности особо не рассматривали, во всяком случае, нам не удалось найти достойных внимания работ, связанных с пассионарностью.
ГРНТИ 04.41.21
EDN QZFXBN
Александр Анатольевич Марков – доктор социологических наук, кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений и политологии Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0009-0004-5980-6743
Тем не менее, одной из таковых можно считать статью М.Е. Дымченко, в которой рассматривается преемственность анализа социоисторической динамики сквозь призму понятия «пассионарность» в теории Л.Н. Гумилёва классической традиции социально-философского рационалистического дискурса (тема героизма, жертвенности и т.п.). Выделим в его работе следующее: «Глобальные изменения, происходящие в современном российском обществе, связанные с его трансформацией и включением в глобализационные тренды, требуют теоретического переосмысления и поиска новых методологических подходов, которые бы позволяли давать новые трактовки происходящим событиям и прогнозировать будущее. Одним из таких подходов выступает пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилёва, который, исследовав исторические и природные процессы, заложил основы нового подхода к понимаю социальной реальности в ее структурном и историческом измерении. Этот подход вполне правомерно рассматривать как парадигмальный столп социально-философской рефлексии, в том числе и в первую очередь российского общества» [2].
Несомненно, роль пассионариев как личностей и их вклад в исторических событиях и свершениях очевиден, как и разумен анализ воздействия психологического воздействия и влияния пассионариев на целевые аудитории. Однако практически нет исследований о значении пассионарности в социальном управлении, ибо если рассматривать социальное управление как организационную константу по определению и реализации соответствующих социальных целей с учетом взаимозависимости задействованных в этом систем – управляющей и управляемой, а также эффективной включенности в планируемые, осуществляемые и итоговые способы, средства, методы, технологии основных элементов социального управления (объекты и субъекты, управляемые субъекты, проекты деятельности и пр.), то очевидным становится понимание того, что успешность или неуспешность любого управленческого процесса (в определенной зависимости от наднационального до регионального уровней) зависит от конкретных управляющих персон, объединяемых именно пассионарным управленцем, способным в силу личностных и профессиональных качеств и талантов достичь заявленных целей. Анализу ролевой значимости пассионарности в процессах социального управления и посвящена настоящая статья.
Пассионарность в формате исторической социологии
Историческая социология, основоположниками которой в России следует считать Н. Данилевского и В. Ключевского, в Европе – М. Вебера, в основном рассматривает сочетаемость и сопоставимость исторических событий с социальными явлениями, способствовавшими появлению и развитию таких событий, по формату причинно-следственных связей, выявляя и предлагая здесь соответствующие константы. Например, Н. Данилевский предлагал складывающиеся в эволюции человечества формы с выраженной структурой и направлениями развития, называя самые значимые из этих форм культурно-историческим типом, различающиеся посредством «самостоятельных, своеобразных планов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного, одним словом, исторического развития» [1, с. 85].
Таким образом, культурно-исторический тип являет собой не что иное как сочетание важнейших признаков конкретной социальной конструкции. Это важно и существенно для понимания исторической социологии. Но при этом в данной научной отрасли практически нет трудов, исследующих роль Личностей в различных исторических событиях, процессах, эксцессах и пр. (революциях, войнах, реформах, кризисах), выступающих организаторами, проводниками, управителями этих событий, кардинально использовавших и трансформировавших социальные системы, социумы, то есть – фактически являвшимися социальными пассионариями
Разумеется, феномен пассионарности вряд ли можно глубоко исследовать, опираясь на основы одной науки, так как пассионарность является объектом синтеза нескольких наук – истории, психологии, социологии, политологии, где каждая имеет свои преимущественные взгляды и направления изучения данного феномена. В контексте данной статьи мы отталкиваемся от парадигм исторической социологии.
Рассмотрим в качестве образца пассионарности личность Александра Македонского. Откуда в сыне царя Филиппа провинциальной Македонии, стоявшей на отшибе великих дел и великой политики древней Эллады, не выделившимся в гимнастические годы даже при спартанских воспитателях ничем от своих сверстников, внезапно, как высшее откровение высших сил, обнаружились соответствующие черты характера (смелость, чувственность, когнитивность, упрямство, проницательность), формировавшие в его душе и голове идеологемы, нравы, нормы понимания и подчинения окружающей действительности; соответствующие таланты (военный, административный, политический), формировавшие в нем полководца, государя, дипломата. И два этих формирования «слепили» одну натуру, которая и в сознании самого Александра воспринималась как величественная, даже величественнейшая, божественная (он считал себя сыном верховного греческого бога Зевса и египетского Амона), но также воспринималась и собственным македонским народом, а после его блестящих побед на просторах Пелопоннеса – народами древней Греции, а после знаменитых побед над Дарием (от Тарса до Гавгамел) и походов до Индийского океана – народами порабощенного Востока.
С точки зрения истории и, возможно, оккультизма, Александр Македонский – таков. Но с историкосоциологической стороны он представляется Личностью, сумевшей имеющимися у него качествами и талантами, силой и волей, харизматичностью и способностями властителя (полководца и царя) изменить привычное существование многих социумов – от Греции до Восточной Азии. При этом изменения, где временно, где надолго, коснулись не только привычных условий и порядков обитания, но и трансформировали жизнеуклады, обычаи. Таким образом, деятельность (равно как созидательная, так и разрушительная) одного или ряда пассионариев способна изменить, преобразовать, развить или уничтожить конкретную социальную систему со сложившимися в ней субъектами и объектами социального управления и функционирования, которые либо подвержены мимикрии самосохранения и восстанавливаются после ухода (смерти, низложения) пассионария, либо, принимая или подчиняясь новым доминантам социального поведения, вступают в качественно новую фазу своей эволюции. В таком случае мы становимся перед периодом формирования новой социальной системы.
Причем временной фактор здесь хотя и несет некий морфологический смысл, однако в конечном счете больше соотносим с историей, нежели с социологией, в том числе и социологией управления. Рассмотрим приход к власти Наполеона и созданную им великую империю. Наполеон качественно преобразовал пораненную Великой французской революцией Францию XVIII века, привыкшую нежиться в социальной постели века просвещения. Эта империя просуществовала чуть более двадцати лет, якобы создав новую социальную общность, органы управления социумом, однако обрушившуюся на бельгийском Ватерлоо и острове Святой Елены, в итоге вернулась пусть и обновленные, но привычные социальные донаполеоновские порядки. Созданная на обломках царской российской империи держава СССР при активном участии пассионариев Ленина, Сталина и т.д. с качественно новыми системами, формами, методами, технологиями социального управления, просуществовала во времени не более семидесяти лет. Для истории временной фактор имеет значение, для социального управления – интерес.
В этом плане представляется важным, как нередко это заявляется в гуманитарных науках, прежде всего – истории, что предпосылками появления качественно новой общественно-экономической формации является наличие непреодолимых появляющихся факторов, которые определяют причины стагнации предшествующей формации и нарождение новой (например, пресловутое – низы не могут, верхи не хотят, а также наличие капитальных кризисов в экономике, политике, социальной сферах), именно эти предпосылки исторически и формируют появление некой пассионарной Личности, способной свергнуть предшествующий строй и создать новый, при этом подобная Личность создается именно предшествующей социально-экономической формацией, понимающей ненадежность и порочность в ее индивидуальном восприятии данной формации, интеллектуально-волевым настроем чувствующая необходимость изменений и свою роль в них.
Здесь на нее влияют различные факторы соответствующего исторического периода, включающие в себя политические, экономические, культурологические, социальные, иногда даже онтологические, предметно характеризующие этот исторические период. Скажем, совокупность таких факторов в первые два десятилетия XIX века в России привели к коллективной пассионарности будущих декабристов. Так, победа в Отечественной войне 1812 года, резко поднявшая волну истинного патриотизма (морально-нравственный фактор), замечательная поэзия (Жуковский, Пушкин, Баратынский, Дельвиг, Давыдов) создававшая байроновскую неупокоенность к несправедливости в отношении крепостного крестьянства, патриотически показавшего себя в ходе этой войны (культурологический фактор), нерешительность, а затем и отказ Александра I в проведении реформирования страны по предложенному варианту М. Сперанского (политический фактор), отчетливо видимая социальная стратификация, где в ходе прошедшей войны была одна нация, а после – та же архаичная социальная сословная система, тормозившая развитие государства (социальный фактор). Побуждения и трагедия восстания на Сенатской площади стали историческим феноменом, вряд ли имеющим аналоги в мировой истории – высшая аристократическая каста общества пожертвовала во имя не оценившего этот подвиг народа.
Жертвенность декабристов не изменила социальный порядок тогдашней России и, с точки зрения исторической социологии, не имела результата. Иначе говоря: с позиции истории восстание декабристов – нравственный подвиг, с позиции исторической социологии – обреченный на провал мятеж, не поддержанный российским социумом, не знавшим ни целей, ни программы участников, с позиции социологии управления – пример волюнтаристского акта, лишенный смысла из-за отсутствия слаженных управленческих решений, как между самими участниками, так и непонимания особенностей объектносубъектных парадигм социального управления тогдашней российской действительности.
Эволюция человеческой цивилизации насчитывает сотни пассионариев, чья деятельность существенно меняла судьбы социумов на всех уровнях – от наднационального до регионального. И следует признать, что далеко не всегда и не все пассионарии отличались не только выдающимися личностями качествами, но и мизантропией, жестокостью, и их идеалы отнюдь не были направлены во благо. Напротив, подобные пассионарии внесли в историю цивилизации черную память. Тот же монах Савонарола, сумевший в расцвет эпохи Возрождения в столице Ренессанса Флоренции настроить население на приверженность ортодоксальным религиозным взглядам, увлечь за собой не только массы обычных людей, но даже блестящих талантов той эпохи (Боттичелли, Макиавелли), силой одного своего характера и своего эго изменив общественные взгляды с человеколюбивых на человеконенавистнические. И пусть это время было недолгим, и самого Савонаролу ждала неизбежная расплата, но даже это временное помрачение общественного сознания дает нам повод увидеть, насколько велико влияние пассионария, пусть и негативного пассионария, на функционирование общества, на его, казалось бы, неявственную мутацию, в корне менявшую привычный уклад жизнеуклада, воззрений, привычек, традиций.
При этом, сложно определить – насильственность или добровольность в следовании людских масс за идеями такого пассионария оказывала качественное воздействие на соответствующие общественные процессы вследствие его появления. Гитлер, используя общественное унижение Германии после поражения в Первой Мировой войне, обвал экономики, снижение уровня жизни и пр., провозгласив идею, как доктрину возрождения «Deutschland, Deutschland über alles», взяв эти слова из первого куплета «Патриотического гимна немцев», написанного поэтом Гофманом фон Фаллерлебеном еще в 1841 году, сделал из этого не только нацистский символ Третьего рейха, но в течение пяти-семи лет превратил эту страну в самую мощную экономическую и военную машину в Европе, подмяв под себя немецкую нацию – и насильственно, и добровольно последовавшую за этим чудовищным пасссионарием. От возрождения нации к всемирному господству – изначальная цель или ее трансформация вследствие успешности экономической реанимации Германии, это вторично, ибо первичным оказалась эффективность социальной обработки массового сознания на волне успешного реформирования страны и веры в фюрера, добившегося этого, и слепое восприятие его избранности, а затем, как кульминации, и – избранности всей арийской нации, не ведавшей, что по опыту и законам исторической социологии в итоге будет естественная катастрофа, увы, обошедшаяся миру в десятки миллионов потерянных жизней.
Так или иначе, любой пассионарий оставляет свой исторический след, усложняющийся социальными детерминациями, потрясениями, трансформациями, создавая новую среду функционирования эт- носа. Историческая социология должна исследовать феномен пассионарности не только в ретроспективе, создавая научное представление и анализ влияния пассионарности на социальные процессы на многочисленных исторических примерах прошлого, но и прогнозируя возможности и влияние пассионарности на современность и перспективу. Социология управления, как представляется, может и должна использовать феномен пассионарности для исследования проблематики социального управления, качественные тенденции которого зависят не только от типа, ресурсов, предмета, ареала, социальной обстановки и т.д. управления, но и от личности управителя. Об этом и пойдет речь в следующем разделе статьи.
Пассионарность в социальном управлении
В существующих теориях социального управления считается, что объектом управления и субъектом управления реализуются тождественные целевые приоритеты, что означает их равную или почти равную мотивацию и вовлеченность в получение надлежащих результатов функционирования. При этом субъект управления в отличие от объекта обладает большим влиянием и возможностями планирования и реализации своей деятельности, равно как и распорядительными полномочиями, вплоть до их абсолютности для объекта управления. В то же время, распространение данной схемы на различные социальные системы предполагает наличие определенных факторов, помогающих или мешающих осуществлять объекту управления распорядительные функции субъекта управления. Одним из таковых факторов является (применительно к теме настоящей статьи) пассионарность.
Субъект управления в физическом смысле – это руководитель, имеющий все необходимые властные полномочия, делегированные фактическими обстоятельствами (легитимная победа на президентских или губернаторских выборах, назначение на должность вышестоящим институтом руководства, прием властных полномочий по наследованию (царь, король, султан), получение властных полномочий в результате революции, переворота, мятежа и пр.). Далеко не всегда данный руководитель обладает качествами пассионария, он может быть и субпассионарием (то есть бледной копией, разрушающей деятельность предшествующего пассионария и его эпоху или срок правления, например, из истории России – Борис Годунов после Иоанна Грозного, Никита Хрущев после Иосифа Сталина; из истории Древнего Рима – Калигула после Октавиана Августа и Тиберия; из истории Франции – Людовик XVIII после Наполеона). Он может быть и лишенным качеств пассионария вообще, но при этом считаться политическим или иным лидером конкретного социума.
Так происходит нередко в силу достижения определенной стабильности социального-экономиче-ского развития, нередко заложенного в пассионарный период великого предшественника, что по инерции предполагает значительный цикл спокойного функционирования этноса или этносов, когда появляющиеся лидеры того или иного государства представляют собой невразумительную общественнозначимую величину. Так, после Жака Ширака Франция последних десятилетий вряд ли может не то, что гордиться, а даже запомнить в будущем скромные и безликие персоны Саркози, Олланда, Макрона. Та же Великобритания после Маргарет Тетчер предложила череду сомнительных якобы лидеров, достойно проявивших себя разве что в технологии инфотеймента – Дэвида Кэмерона, Бориса Джонсона, Терезу Мэй, Лиз Страсс, Риши Сунака. Та же Германия после Вилли Брандта и в какой-то степени Ангелы Меркель ныне заметно деградировала в своих руководителях – Олаф Шольц, Роберт Хабек, Аналена Бербок.
Основная причина появления такого рода руководителей как раз и объясняется фактором пассионарности – вернее – ее отсутствия как данности. Распорядительные функции субъекта управления, исходя из вышеприведенных примеров, где налицо некомпетентность, нерешительность, незначительность волевых и интеллектуальных возможностей и т.д., отрицательно сказываются на объекте управления. И только, повторимся, в силу достигнутой ранее стабильности развития государства, как объекта управления, подобное управление при всей очевидности его негативных последствий, еще не является побудительной причиной социальных, экономических и политических потрясений. «Подушка безопасности» прошлого обнадеживает. Пока…
Отличительным качественным признаком политического пассионария, особенно в современных условиях геополитической турбулентности, ослабления позиций однополярного мира и становления многополярности как тенденции будущего человеческой цивилизации, является его стремление, умение и наличие именно пассионарных личностных качеств в выстраивании и отстаивании суверенности своего объекта – государства или региона. На наш взгляд, такого типа в нынешней современности ярко выраженных пассионариев всего трое – Владимир Путин, Си Цзинь Пин и Рэджеп Эрдоган. Вне зависимости от отношения (и позитивного, и негативного) к этим лидерам в международном сообществе или в национальных социумах, их пассионарность очевидна.
Каждый из этих лидеров в основу своей политической концепции, охватывающей и экономические, и социальные парадигмы, ставит национальную суверенность. Именно национальная суверенность является тем базисом, на котором выстраивается управленческая деятельность во всех направлениях:
-
а) развитие отечественной экономики и промышленности (доказательством служит очевидное и быстрое (всего за два десятилетия) превращение Китая в ведущую экономическую мировую державу; качественная переориентация экономики России на национальный формат, особенно после 2014 года (например, до 2014 года сельскохозяйственная продукции в России была в значительной степени импортного производства, но после первого санкционного давления, серьезно усилившегося с 2022 года, сельское хозяйство России является высокоразвитым (практически обеспечена продовольственная безопасность, а в экспорте зерна Россия занимает первое-второе места в мире), стимулировавшая процессы импортозамещения от продукции до технологий (особенно заметны позитивные подвижки в авиастроении, сталелитейной и легкой промышленности);
-
б) изменение статуса страны в мировом политическом пространстве (доказательством служат провозглашенный В. Путиным еще в 2008 году в Мюнхене переход мироустройства от однополярного к многополярному миру (над чем тогда уверенные в незыблемости однополярной конструкции западные лидеры только посмеялись, сегодня это – очевидность); возвращение Крыма и специальная военная операция; развитие политико-экономических блоков – БРИКС, ШОС, играющих все возрастающую роль в мировой политике и экономике; превращение КНР в ведущее государство АТР и нацеленность на возвращение к Китаю его исконных территорий (от Гонконга до Тайваня); независимая внешняя политика Турции, ориентированная только на национальные интересы (демонстративный отказ от вступления в Евросоюз, закупка российского вооружения (С-400) этой страной, членом НАТО, определенный демарш по вступлению в НАТО Швеции, ориентация на долгосрочное экономическое сотрудничество с Россией (от Южного газового потока, где Турция является владельцем газового хаба, до строительства атомной электростанции «Аккую», несмотря на серьезное противодействие этому коллективного Запада); жесткая антиизраильская позиция в длящемся военном палестино-израильском конфликте, выдвинувшая Турцию в ведущего актора на Ближнем Востоке и в арабском мире;
-
в) формирование новой социокультурной парадигмы (доказательством чего служат: в Турции – постепенное продвижение в стране и за ее пределами так называемого «тюркского мира», включая в этот проект на основе турецкого национализма экономическую, политическую и культурно-образовательную сферу, в той же гуманитарной плоскости очевидна ориентация на формирующиеся и уже сформированные «общетюркские» позиции, включая идеологию пантюркизма. Эта идеология направлена на цель пер-септивного всеобщего объединения, и вне зависимости, от возможности ее реализации, сама идея находит много сторонник в самой Турции и за ее границами. Создать общественное мнение в поддержку таких планов способен только пассионарий, герой нации, которым и представляется в глазах турецкого социума Р. Эрдоган; в Китае – поступательное и неуклонное политическое и экономическое развитие страны на основе господствующей идеологии, являющейся квинтэссенцией данного развития, контролируемого и направляемого лидером Си Цзинь Пином. Его социокультурная парадигма, неотделимая от господствующей идеологии, предельно выражена в его же словах: «Мы говорим о необходимости крепить уверенность в верности собственного пути, собственной теории и собственного общественного строя, о том, что нужно иметь крепкие, как монолит, духовные силы и убеждения и одновременно огромные материальные силы, поддерживающие эти самые духовные силы и убеждения. А для этого требуются непрерывные реформы и инновации, чтобы социализм с китайской спецификой мог демонстрировать свою более высокую эффективность по сравнению с капиталистическим строем в раскрепощении и развитии общественных производительных сил, в раскрепощении и наращивании жизненных сил общества, в стимулировании всестороннего развития человека, чтобы он мог еще лучше мобилизовывать активность, инициативу и творческие силы всего народа, создавать еще больше благоприятных условий для социального развития… словом, чтобы он мог полностью развертывать преимущества социалистического строя с китайской
спецификой» [4, с. 131-132]. И это не просто программа действий – это осуществляемая реальность; в России – восстановление российской политической системы с начала 2000 гг., прежде всего введение института полномочные представителей Президента РФ в федеральных округах, что резко снизило сепаративные настроения, постепенное выдавливание социокультурного либерализма, доминировавшего в стране, начиная с середины 1990-х, с передовых позиций, поиск и внедрение отечественных социальных парадигм (от определения духовных скреп до поэтапного внедрения в национальное сознание подзабытых отечественных постулатов на основе истории, литературы, отечественного кинематографа, включая многовекторные этнические образцы надлежащих онтологических ценностей, даже развитие национального туризма, как один из путей познания величия и своеобразия России). Этот процесс идет сложно, так как за десятилетия доминирования либеральных лекал уже создан определенный стереотип либерального мышления, но главное – он начался и идет, управляемый волей лидера страны. Здесь уместно согласиться с О. Шпенглером: «Народ в стиле культуры, т.е. исторический народ, называется нацией. Нация, поскольку она живет и борется, обладает государством не только как состоянием движения, но всего как идеей. Пускай даже государство в простейшем его смысле имеет тот же возраст, что и свободно движущаяся в пространстве жизнь вообще… Все же государство большого стиля насчитывает не больше лет от своего возникновения, чем прасословия знать и духовенство: они возникают с культурой, с ней же они и гибнут, их судьбы в значительнейшей мере тождественны. Культура – это существование наций в государственной форме» [6, c. 378-379].
Из вышеприведенного анализа вытекает значение пассионарного управленца, способного именно своей волей, своим видением преобразований в государстве и их актуальности, сформировать свою модель, систему, технологии управления, отыскать или вырастить то ядро управленческого аппарата (от национального до регионального уровней), верно исполняющих курс лидера. несомненно, в подобном типе управления очевидна авторитарность, но именно она (отягощенная личностными особенностями самого пассионария – характер, взгляды, ценностные приоритеты, образование, привычки, воспитание, интеллект и пр.), способствует оперативности и качественности выполнения заданного курса, и если она не превращается в культ личности и способна ограничить себя демократическими нормами управления, то становится исторической вехой поступательного развития страны в – Державу, меняющую ее население на – нацию, в большинстве своем верящую в собственную суверенность и готовую укреплять и отстаивать ее. Автократия в ее предельном выражении – путь к тоталитаризму. Автократия в разумной форме – путь к государственной стабильности.
Почему в Западной Европе мы не видим сегодня пассионариев? На наш взгляд, это связано с периодом благополучия, экономической и социальной «сытости» с 1960-х по 2000-е годы, когда динамика борьбы, свершений, отстаивания суверенности постепенно растворялась в патоке свершившегося изобилия, где лишь спорадически вспыхивала пассионарность де Голля, Тэтчер, Шредера, а в целом отпадала необходимость искать и достигать новых вершин собственного функционирования, оно и так было на высоте. Последний шаг – окончание «холодной войны», окончательно убедивший Запад в своем совершенстве и величии («Европа – это цветущий сад, а все вокруг джунгли», – это изречение главы дипломатии Евросоюза Ж. Борреля, как западная аксиома своего статуса, было высказано год назад, но зарождалось оно в конце 1980-х годов). Тем самым атрофировались инстинкты целеполагания перспективы и выживания, а вместе с ними и отпадала неизбежность появления пассионариев, время которых, согласно Л. Гумилеву, – в акматической фазе этногенеза [3].
Подытоживая, мы можем утверждать, что феномен пассионария является одним из весомых факторов субъектов социального управления, особенно на национальном уровне, который проецируется на нисходящие уровни управления (регионального, корпоративного, общественно-организационного), потому что именно пассионарное управление (от центра до локальных мест) императивно определяет основные направления политических, экономических и социокультурных парадигм развития социума, регулирует и контролирует их исполнение по всем вертикалям управления, формирует такие критерии и идеологемы, которым вольно или невольно подчинены все институциональные элементы государственного управления. При этом закладываются новые или совершенствуются имеющиеся культурные, онтологические, идеологические нормы, как опции воздействия на общество, создающие или трансформирующие соответствующую духовную базу этого общества.
Выводы
Социальное управление является осознанным систематическим процессом эквивалентности индивидуумов и их сообществ, при котором они способны оказывать регулятивное воздействие на аналоги, то есть на иных индивидуумов и сообщества. Социальная система, являющая собой некий структурный формат социальной реальности, означает формирующееся или завершенное целостное образование, основными элементами которого опять-таки являются люди, их связи и взаимодействие. То есть, во главе социальной конструкции стоит человек, человеческая общность. Человек – и вершина этой конструкции, и множественное образование, определяющие в совокупности направления, нормы, тенденции своего развития. Этим и определяется как эволюция человечества в виде стран и народов, так и этап-ность этой эволюции (как прогрессивной, так и регрессивной).
Историческая социология дает нам массу примеров того, что подобные этапы нередко ускоряются посредством пассионариев, способных придать этим этапам необходимые и исторически определенные импульсы (скажем, в виде революций, войн, феноменальных открытий и т.д.), которые становятся качественными шагами или скачками развития (а порой – и деградации, зачастую временной). Значение пассионарности как раз и заключается в ярко выраженной форме, средствах и методах управления социальными процессами в такие этапы, влияющие не только на конкретное общество, но и на цивилизацию в целом. Это – закономерность, характеризующая человеческую природу. И ни один научно-технический прогресс со всеми его инновациями, ни одна даже самая прогрессивная теория человеческого бытия, не способны эту закономерность нарушить.