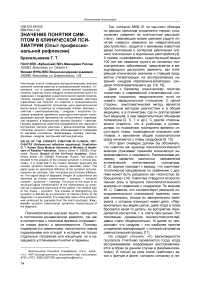Значение понятия симптом в клинической психиатрии (опыт профессиональной рефлексии)
Автор: Красильников Геннадий Тимофеевич
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая психиатрия
Статья в выпуске: 2 (87), 2015 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена методологическому анализу значения понятия симптом в психиатрической клинике. Отмечается, что в современной отечественной психиатрии понятию симптом стали отводить второстепенное место по сравнению с синдромом в диагностической оценке психопатологии пациента. Дается описание признаков симптома и феномена как понятий, их сходства и принципиального различия. Описываются логические шаги диагностической мысли врача психиатра по следующим этапам: феномен -симптом - симптомокомплекс - синдром - нозология. Основное внимание уделяется структурно-логической трансформации врачом феномена как субъективного переживания пациента, в медицинский признак болезни - симптом. Процесс выделения симптома определяется как компонент внутренней картины диагноза у врача-психиатра. Диагностическая ценность симптома обосновывается примерами из мировой психиатрии.
Симптом, феномен, синдром, внутренняя картина диагноза
Короткий адрес: https://sciup.org/14295809
IDR: 14295809
Текст научной статьи Значение понятия симптом в клинической психиатрии (опыт профессиональной рефлексии)
Так, согласно МКБ-10, из научного обихода по разным причинам устраняется термин «психопатия» (заменен на «личностное расстройство»), сверкающее всеми цветами радуги понятие «невроз» изменено на «невротическое расстройство», сводится к минимуму известное ранее положение о полярном различении клиники психогенных и эндогенных расстройств [4]. А термин «шизофрения», существующий свыше 100 лет как название одного из основных психиатрических заболеваний, предлагается в международных дискуссиях заменить, как потерявший клиническое значение и ставший предметом стигматизации, на альтернативные названия: синдром «Крепелина-Блейлера», синдром гиполатерализации и др. [18, 19].
Даже к базовому клиническому понятию «симптом» в современной отечественной психиатрии сложилось неоднозначное, если не сказать парадоксальное отношение. С одной стороны, симптоматический метод является признанным методом диагностики и в общей медицине, и в психиатрии, где он долгое время был ведущим, о чем свидетельствует обширная литература [2, 5, 7 и др.]. С другой стороны, можно отметить, что в учебниках и руководствах по психиатрии последнего времени отсутствуют главы, посвященные описанию симптомов, и изложение общей психопатологии сразу начинается с главы синдромов [9, 10].
Этот факт очевидно должен бы обозначать, что симптом как единица психопатологического анализа утрачивает прежнюю клиническую информативность и значимость. Рассматривая динамику развития различных направлений в клинической отечественной психиатрии, С. Ю. Циркин приходит к выводу, что симптома-тологическое направление по сравнению с другими может быть расценено как «полностью заброшенное» [14]. Симптому отводится второстепенная роль в процессе психопатологического анализа по сравнению с синдромом. По мнению Ю. С. Савенко, это соответствует реальной последовательности клинической практики, которая сложилась, исходя из эмпирического материала, с которым клиницист имеет дело. «Первоначально мы видим целое, даже когда в глаза бросается какая-то деталь, ее восприятие определяется контекстом, т. е. опять-таки целым. Это положение, доказанное гештальтпсихологией, давно стало общепринятым». И далее он продолжает, что синдром – это наиболее простая и надежная квалификация, с которой начинается диагностический процесс [11].
Но следует уточнить, что закономерности гештальта отчетливо проявляются тогда, когда воспринимаемая информация восстанавливается в образ (в данном случае в феноменоком-плекс). И только на этом этапе «работает» закон о фигуре и фоне, согласно которому в лю- бом восприятии есть значимая часть (фигура) и незначимая (фон), тем не менее, смысл фигуры определяется «замыканием гештальта», наложением смысла фона на фигуру. Но мысль продирается из небытия образной многозначности в ясно очерченный круг слов и понятий. Если воспользоваться схемой К. Поппера, разделившего весь наш мир на три части – «мир вещей», «мир идей» и «мир людей», то можно сказать, что понятия – это отображение вещей в «мире идей», а образы – это отображение понятий в «мире людей» [1]. Здесь проводится своеобразная аналогия: образ – феномен, понятие – симптом.
И не зря у многих народов мира бытует пословица о том, что «дьявол живет в мелочах». Без навыков четкого выделения и однозначной идентификации симптомов клиницист вряд ли станет тонким диагностом. Еще Курт Шнайдер предупреждал, что большинство неверных диагнозов возникает именно из-за опрометчивого обозначения результатов наблюдения за больным специальными терминами [15]. Здесь следует согласиться с С. Ю. Циркиным, что « син-дромальная квалификация обычно создаёт лишь иллюзию интегральной оценки состояния» . И, на самом деле, она всего-навсего информирует о ведущей симптоматике в статусе пациента. Так, «депрессивный синдром» означает лишь наличие депрессивного аффекта, «кататонический синдром» свидетельствует только о кататонии [14]. В тех случаях, когда хотят фиксировать в синдроме особенности ведущего симптома, то приходится применять его многосложные определения: астеноипохон-дрический синдром, тревожная сенестопатиче-ски-ипохондрическая депрессия, галлюцина-торно-катататонический синдром и т. п. Поэтому есть основания прибегнуть к профессиональной критической рефлексии и подвергнуть симптом более глубокому методологическому анализу. Многие трудности в этой проблеме происходят от нечеткого разведения близких понятий «симптом» и «феномен». Их четкого определения и различения нет в психиатрических справочниках и словарях. А в клинической практике и в литературных описаниях они нередко применяются как синонимы.
Если обратиться к анализу симптома как к понятию, как профессиональному «инструменту» в клинической работе врача-психиатра, то следует озаботиться профессиональной четкостью применения данного «инструмента». Прежде всего, нужно отметить, что не всякая жалоба пациента, которая и является феноменом-переживанием, определяется как симптом. В клинической психиатрии в течение нескольких веков в поколении врачей шло постепенное преемственное накопление информации о клинической значимости определенных жалоб больных, которые повторялись и были типичными у определенного рода больных и тем самым являлись свидетельством наличия определенного психического заболевания (расстройства). А десятки и сотни других, сопряженных с этой «стержневой» жалобой, индивидуальных оттенков переживаний больными своего неблагополучия (феноменов), которые широко варьировали от случая к случаю и поэтому не выделялись врачами в качестве диагностически значимых признаков психического расстройства. И за этими типичными признаками в историческом процессе клинических наблюдений закреплялись определенные характеристики, позволяющие одинаково идентифицировать эти симптомы различными врачами. Поэтому далеко не всякое понижение настроения определяется как «симптом депрессии», как не всякий страх – симптом фобии. Так, депрессия – это когда пониженное настроение длится не менее 2 недель, проявляется большую часть дня, привносит субъективный дискомфорт и отражается на повседневной жизни. А, например, сенестопатия, как симптом, в отличие от других феноменов нарушений телесной перцепции, характеризуется качественной неопределенностью ощущения, абсолютной сенсорной новизной (отсутствием в прежнем субъективном опыте пациента подобного чувственного аналога), выраженной окрашенностью аффектом витальной тревоги переживания этого ощущения.
Т. е. симптом психического расстройства не предстает в непосредственном восприятии, как сыпь или кашель, а является результатом логических индуктивных умозаключений врача-специалиста. Значит симптом как понятие – это логически структурированная индуктивная категория, стандартизированная, имеющая определенный объем содержания, ограниченная четкими критериями, что делает симптом идентифицируемым различными врачами-психиатрами. И в этом основное отличие симптома от феномена, как непосредственно воспринимаемого элемента переживания пациента. При этом следует отдавать отчет в том, что симптомы психического расстройства принципиально отличаются от симптомов соматического заболевания по причине того, что в современных нейронауках, несмотря на их значительные достижения последнего времени, исследованы только отдельные патогенетические звенья и выдвинуты обобщающие гипотезы, объясняющие происхождение симптомов психической патологии. Так, к основным объяснительным принципам в теории неврозов относятся энергетический (энергетика бессознательного конфликта), принцип научения (подражание и обучение) и стрессовое напряжение (социально-психологическое воздействие).
Эти же принципы сохраняют свою актуальность и при эндогенных заболеваниях, но поскольку там они действуют в других условиях, то и получаются иные следствия. Таким образом, в основе симптома могут лежать расстройства в разных плоскостях внутри и вне индивида: нарушение в организме и нервной системе, нарушения в психике программ, которые перерабатывают информацию и регулируют поведение, а также лежащие в их основе процессы биохимической передачи информации; или нарушения в окружающей социальной среде [13]. Во многих случаях нарушения различного типа сочетаются за счет наличия внутренних и внешних связей [6].
Согласно современной парадигме, принятой в мировой психиатрии, человек рассматривается в его био- психо- и социальном единстве как в норме, так и в патологии. С этих позиций психиатрические симптомы, как признаки психических расстройств, не возникают без нарушений физиологических функций мозга. Поэтому симптом в медицинском смысле обязательно содержит эту физиологическую («патофизиологическую») составляющую.
Другой аспект симптома, подлежащий исследовательскому рассмотрению, заключается в следующем. Симптомы могут проявляться в физической, эмоциональной, когнитивной, поведенческой и перцептивной сферах, оказываются связанными с различными сторонами психики и телесности пациента. Поэтому феномены патологических переживаний нередко затруднительны для описания самому больному из-за их качественной необычности и сложного эмоционального отношения к ним самого пациента: сомнений, тревоги, страха или чувства неловкости перед обнажением своего интимного внутреннего опыта и др. В связи с этим феномен, как он предстает в пересказе больного, есть результат взаимодействия пациента с врачом, который помогает ему вербализовать свои переживания. Особенно это становится заметным по тому, как после второй или третьей беседы-интервью с врачом больной значительно точнее и полнее начинает описывать и тем самым осознавать свое состояние. В интерперсональном феноменологическом поле взаимодействия с пациентом диагностическая мысль клинициста проделывает целенаправленную работу, превращая выявляемые субъективные феномены пациента в категорию симптома. Во внутреннем субъективном опыте психиатра при этом диагностическом процессе возникает ряд собственных феноменов, связанных со взаимодействием с пациентом, что исследуется в последнее время в рамках нового теоретического конструкта – «внутренняя картина диагноза» [13].
Внутренняя картина диагноза в этом концепте рассматривается как открытая динамическая структура, как комплекс представлений, переживаний, ощущений врача, обусловленных наблюдаемыми явлениями психической жизни у другого человека, у пациента. Идентификация симптома в структуре внутренней картины диагноза определяется как компонент и как один из этапов структурирования диагноза: феномен – симптом – симптомокомплекс – синдром – нозология. Но сам симптом становится из феномена симптомом как клиническим фактом только в процессе клинического исследования, что и позволяет определять психиатрию клинической дисциплиной.
История психиатрии полна примеров, подтверждающих высокую ценность симптомото-логического подхода в психопатологии. Так, один их самых сложных психиатрических синдромов – Кандинского-Клерамбо – мог быть структурно полно описан в результате последовательного исторического накопления его составляющих симптомов. Первый компонент этого синдрома – псевдогаллюцинации – впервые описал В. Х. Кандинский в 1885 и 1990 гг., на клиническом примере самоописания перенесенных двух приступов периодического психоза. Психиатрии просто «повезло», что подобным психозом заболел такой талантливый психиатр и эрудированный психолог, сумевший филигранно описать совершенно новые тогда психопатологические феномены (которые можно было впервые выделить и идентифицировать, наверное, только через интроспекцию), вошедшие в анналы мировой психиатрии [3]. Ибо, согласно мнения А. А. Потебни, видного отечественного мыслителя недавнего прошлого, «наши душевные состояния уясняются лишь по мере того, как мы обнаруживаем их в других, или выражаем в слове. Темными остаются для нас те особенности душевной жизни, которые мы не можем выразить словами, и не видим ни в ком, кроме себя» [8]. (Это сейчас критерии определения симптома псевдогаллюцинаций заучивают студенты медвуза). В дальнейшем, в 1920-е гг. французский психиатр Г. Клерамбо в ряде статей описал и дал полную классификацию симптомов психического автоматизма [16], чем завершилось структурирование этого большого синдрома, названного в 1927 г. по предложению А. Эпштейна по имени авторов синдромом Кандинского-Клерамбо. В 1970– 1973 гг. по программе ВОЗ проводилось масштабное кросскультуральное клиникоэпидемиологическое исследование шизофрении, в котором участвовали 10 стран мира, включая СССР [17]. В рамках подготовки к участию в данном исследовании в СССР проводились установочные диагностические семинары в 1968 и 1969 гг., на которых ведущие отечест- венные психиатры обменивались опытом своих диагностических установок и методик. При этом оказалось, что диагностическая разноголосица (а в одном случае были выставлены диагнозы почти всего диагностического реестра в психиатрии: от шизофрении до олигофрении) возникает в основном из-за различий в идентификации симптомов. Один из аспектов этого международного исследования заключался в определении частоты симптомов шизофрении у больных разных стран, причем было установлено, что наиболее часто (от 88 до 96 %) встречается симптом нарушения критичности («инсайта») [17].
По представлениям К. Шнайдера (автора «Клинической психопатологии», выдержавшей 14 международных переизданий), симптом определяется как медицинское обозначение отдельного проявления болезни. По клиникодиагностической значимости все психопатологические симптомы он делил на симптомы переживания (бред, галлюцинации, автоматизмы, бредовое восприятие и др.) и симптомы экспрессии (поведения). Высоко оценивая возможности диагностического использования симптомов, он подразделил по диагностической ценности все симптомы, встречающиеся в клинике шизофрении, на симптомы первого ранга, включающие исключительно симптомы переживания, и симптомы второго ранга. Это подразделение, кстати, сохраняется в симптомато-логических критериях диагностики шизофрении в последней международной классификации – МКБ-10 [4].
В общей медицине существует положение – кто хорошо диагностирует, тот хорошо и лечит. На практике встречаются случаи, когда хирург безуспешно лечит пациентов с аэрофагией, терапевт – с гипервентиляционным расстройством, а психотерапевт – с нераспознанным неврологическим заболеванием. Основа правильной диагностики с неизбежностью определяется правильно идентифицированными симптомами. В качестве подтверждения сошлюсь на требование к квалификации врачей, допускавшихся к включению в исследовательскую кардиологическую программу ВОЗ, с чем приходилось встречаться во время работы в НИИ КПГ и ПЗ СО АМН СССР в 1977–1979 гг. в Новокузнецке. Врач (терапевт или кардиолог) получал допуск на участие в ВОЗовской исследовательской программе, если он смог правильно определить (диагностировать) три стандартных кардиологических симптома на предлагаемой в качестве теста фонокардиограмме. К сожалению, в психиатрической клинике нет подобных унифицированных стандартов экспресс-тестов для проверки квалификации врача.
Однако можно проверять диагностическую профессиональную компетентность врача-психиатра и другим, эмпирическим путем. На кафедре психиатрии ФПК и ППС Новосибирского медвуза в 2001–2002 гг. был опыт включения в квалификационный выпускной экзамен интернов и ординаторов теста на постановку синдро-мального диагноза через определение симпто-мокомплекса у больного, находящегося на стационарном лечении в клинической базе кафедры, после 20-минутного клинического интервью. В дальнейшем этот опыт был вытеснен программой стандартизированных компьютерных вопросов. А на практике могут встретиться психиатры с достаточной теоретической эрудицией, которые правильно отвечают на компьютерные вопросы, но отличаются эмпатической, и тем самым клинической, нечувствительностью и затрудняются идентифицировать психопатологические симптомы у конкретного пациента.
Как следует из предложенного выше текста, симптом, как и любое психическое явление, обладает сложными системными качествами, оказывается связанным с различными сторонами психики и телесности пациента. Перефразируя известные слова В. И. Ленина о неисчерпаемости электрона, можно сказать, что симптом также неисчерпаем, как и синдром. Поэтому значение симптомов, как основной базисной структурной единицы психопатологического анализа, сохраняется в психиатрической клинике, несмотря на смены концепций и парадигм.
Список литературы Значение понятия симптом в клинической психиатрии (опыт профессиональной рефлексии)
- Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевский М. Г. Психология науки. -М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. -312 с.
- Жмуров В. А. Психопатология. -М.: Медицинская книга; Нижний Новгород: НГМА, 2002. -668 с.
- Кандинский В. Х. О псевдогаллюцинациях. -СПб., 1890.
- Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств/Всемирная организация здравоохранения. -СПб., 1994. -304 с.
- Морозов Г. В., Шумский Н. Г. Введение в клиническую психиатрию (пропедевтика в психиатрии). -Нижний Новгород: НгМА, 1998. -426 с.
- Пере М., Бауманн У. Клиническая психология/под ред. М. Перре. -СПб.: Питер, 2002. -1312 с.
- Портнов А. А. Общая психопатология. -М.: Медицина, 2004. -272 с.
- Потебня А. А. Мысль и язык. -М.: Лабиринт, 1999. -269 с.
- Психиатрия: национальное руководство/под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. А. Тиганова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -1000 с.
- Руководство по психиатрии: в 2-х т./под ред. А. С. Тиганова. -М.: Медицина, 1999.
- Савенко Ю. С. Симптомы, феномены и синдромы в клинической практике//Независимый психиатрический журнал. -2009. -№ 2. -С. 31-35.
- Семке В. Я., Бохан Н. А., Галактионов О. К. Очерки этнопсихологии и этнопсихотерапии/под ред. акад. РАМН В. Я. Семке. -Томск, 1999.
- Харисова Р. Р., Чебакова Ю. В. Типология внутренней картины диагноза у врачей-психиатров//Психология. -2012. -№ 2. -С. 206-221.
- Циркин С. Ю. Симптомы и синдромы в клинической диагностике//Независимый психиатрический журнал. -2009. -№ 2. -26-30.
- Шнайдер К. Клиническая психопатология/пер. с нем. -14-е изд. с ком. Г. Губера, Г. Гросс. -Киев: Сфера, 1999. -301 с.
- de Clerambault G. Syndrome mecanique et conception mecanisiste des psychoses hallucinatoires//Annales medico-psychologiques. -Paris, 1927. -№ 85. -P. 398-413.
- Schizophrenia: a multinational study. A summary of the initial evaluation phase of the inter pilot study of schizophrenia. -Geneva: WHO, 1975. -150 p.
- Schizophrenic Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to nia/edited by J. Read, R. L. Mosher, R. P. Bentall. -Hove, East Sussex: Brunner-Routledge, 2004. -373 p.
- World Psychiatric Association. Schizophrenia -Open the doors, the WPA Global Programme against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia. -New York: World Psychiatric Association, 2002.