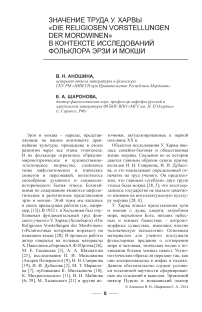Значение труда У. Харвы «Die religiosen vorstellungen der mordwinen» в контексте исследований фольклора эрзи и мокши
Автор: Аношина Валентина Николаевна, Шаронова Елена Александровна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются научная проблематика работы У. Харвы «Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen» и ее значение в контексте изучения фольклора эрзи и мокши, обозначены причины неприятия исследователем так называемой мифологической системы П. И. Мельникова.
Мордовская мифология, религиозные воззрения эрзи и мокши, финно-угристика, у. харва, п. и. мельников, х. паасонен
Короткий адрес: https://sciup.org/14723060
IDR: 14723060
Текст научной статьи Значение труда У. Харвы «Die religiosen vorstellungen der mordwinen» в контексте исследований фольклора эрзи и мокши
-
Е. А. ШАРОНОВА,
доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П.Огарёва» (г. Саранск, РФ)
Эрзя и мокша – народы, представляющие на нашем континенте древнейшие культуры, прошедшие в своем развитии через все этапы этногенеза. В их фольклоре отразилось обрядовомировоззренческое и художественноэстетическое творчество, сложились типы мифологических и эпических сюжетов и персонажей, воплотилось своеобразие духовного и социальноисторического бытия этноса. Богатейшими по содержанию являются мифологические и религиозные представления эрзи и мокши. Этой темы мы касались в своих предыдущих работах (см., например, [15]). В 1952 г. в Хельсинки был опубликован фундаментальный труд финского ученого У. Харвы (Холмберга) «Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen» («Религиозные воззрения мордвы») на немецком языке [28]. В процессе работы автор опирался на полевые материалы Х. Паасонена, сборникиА. Ф. Юртова [26], М. Е. Евсевьева [3], А. А. Шахматова [25], исследования П. И. Мельникова (Андрея Печерского) [9], И. Н. Смирнова [19], И. И. Дубасова [2], М. Т. Маркелова [7], публикации К. Мильковича [10], К. Митропольского [11], В. Н. Майнова [6; 29], М. Халанского [21] и другие ис- точники, актуализированные к первой половине XX в.
Объектом исследования У. Харвы явилась семейно-бытовая и общественная жизнь мордвы. Сведения по ее истории даются главным образом сквозь призму взглядов И. Н. Смирнова, И. И. Дубасова, и это накладывает определенный отпечаток на труд ученого. Он предположил, что главным «стеблем» двух групп этноса была мокша [28, 5 ]; что золотоордынское государство не оказало заметного влияния на интеллектуальную культуру мордвы [28, 6 ].
-
У. Харва описал представления эрзи и мокши о душе, смерти, загробном мире, верховном Боге, низших небесных и земных божествах – антропоморфных существах, имеющих вполне человеческую психологию. Основным материалом для ученого послужили фольклорные предания о сотворении мира и человека, эпические песни о похищении богами земных невест. Устнопоэтические образы он передает так, как они воспроизведены в мифах и песнях. Данное обстоятельство служит условием подлинной научности сформированных им суждений и выводов. Эрзянский инязор Пургас и мокшанский оцязор
© Аношина В. Н., Шаронова Е. А., 2014
Пурейша, легендарный царь Тюштян описаны как исторические и эпические персонажи, пребывающие между реальным и мифологическим мирами, их бытие зависит от высшего Бога, различных светлых и темных сил.
Существование первобытного и раннеклассового общества полностью регламентировалось обычаем, традицией, обрядом. Учитывая это, У. Харва подробно описал обряды похорон, поминок, родительских дней, связанные с ними воззрения о загробном мире, календарные праздники, братчины, жертвоприношения, уделил особое внимание охранительной магии. Для древнего человека природа была одушевленной, мыслящей и говорящей. Ему были свойственны гилозоистские воззрения о солнце, луне, вечерней и утренней заре, дожде, тумане, ветре, морозе. Ученый воспроизвел отношение мордвы к этим явлениям природы, мифологическим героям. Они воспринимались как реальные могущественные существа, с которыми приходилось вступать в практические связи. В частности, в таких отношениях человек находился с божествами воды (Ведявой, Ведятей, Рававой), земли (Ма-сторавой), дома и двора (Кудавой, Юр-тавой, Кардаз-Сярко), поля (Норовавой, Паксявой), леса (Вирявой, Вирятей), села (Велявой, Веленьпазом) и т. д. По мнению У. Харвы, для эрзян и мокшан все на земле измерялось высшими силами, с которыми следовало жить в мире и согласии, выполняя их заповеди, сохраняя окружающую природу. Древний человек-мифотворец был поэтом, но его поэзия подчинялась насущным потребностям существования. Это обстоятельство также отражено ученым.
Научный мир России и Запада судит о мифологии и религии эрзи и мокши, основываясь на исследовании У. Харвы. Однако его идеи и выводы нуждаются в комментариях, так как появились новые данные по истории, мифологии и религии мордвы. Должны быть проведены обстоятельные научные изыскания с учетом работ
А. И. Маскаева [8], К. Т. Самородова [18], Н. Ф. Мокшина [13], А. М. Шаронова [23] и других ученых, которые значительно расширили представления о религиозно-мифологическом мире эрзи и мокши. При этом нужно принять во внимание мнение Д. С. Лихачева, высказанное им в беседе с корреспондентом журнала «Огонек» А. Черновым: «Русь была поразительной державой, в которой соединялись и финно-угорские народы, и народы иранские, и восточные славяне. Это видно по именам и по именам богов. Что такое Мокошь? Племя Мокошь. Что такое Перун? Это финно-угорский Пер-кун» [5, 9–10 ].
Археолог И. М. Петербургский констатирует, что к концу I тыс. н. э. в междуречье Оки и Волги были хорошо развиты земледельческая культура и скотоводство. Об этом свидетельствуют орудия труда древних эрзян и мокшан (лесорубные топоры, серпы, мотыжки, сошники, наральники), семена возделываемых ими растений (ячмень, пшеница, просо, полба, рожь, горох, лен, конопля), останки домашних животных (коров, свиней, овец, коз). Массовые находки железных предметов в погребениях на территории современной Мордовии и их металлографический анализ показывают, что уровень железоделательного производства у мордвы в I тыс. н. э. был достаточно высок и соответствовал общему уровню развития восточноевропейского кузнечного ремесла [16, 121–128 ].
И. Т. Посошков в «Завещании отеческом…» (1719 г.) писал о хорошем знании эрзянами и мокшанами русского языка, что было обязательным условием широких межнациональных контактов, включая религиозные: «Естъли им дать лет на десять льготы в податях и отмену в милости учинить крещеным от некрещеных, то вся мордва года в два-три примут крещение. И презвитерам, кии к ним отделены будут, не требе учити-ся их языка, понеже вси они русской язык знают» [1, 127]. Голландец Стрюйс в описании путешествия из Москвы в Астрахань в 1669 г. рассказал о совмест- кУ) Финно–угорский мир. 2014. № 1 ном проживании эрзян и русских в Муроме: «…Из Ляхов отправились в Муром (Моruma). Этот маленький городок, населенный москвитянами и татарами, называемыми мордвой (Morduvins), составляет границу последних, хотя находится под властью царя» [1, 188]. Аналогичное известие в 1703 г. оставил другой голландец, Корнилий де Бруин: «…3-го числа (мая) проплыли мы мимо Мурома, города, расположенного на одной горе, спускающейся к реке. Город этот с виду довольно большой, с 7 каменными и многими деревянными церквами. Говорят, что здесь родится лучший во всей России хлеб. Он отстоит от Елатьмы на 60 верст и заселен русскими и татарами. Говорят также, отсюда начинают встречаться татары, называемые мордва…» [1, 126].
Эрзя и мокша – народы, представляющие на нашем континенте древнейшие культуры, прошедшие в своем развитии через все этапы этногенеза.
В их фольклоре отразилось обрядово-мировоззренческое и художественно-эстетическое творчество, сложились типы мифологических и эпических сюжетов и персонажей, воплотилось своеобразие духовного и социально-исторического бытия этноса.
В XIX–XX вв. благодаря многочисленным публикациям фольклорных произведений предания, традиции, обряды мордвы стали достоянием науки. В 1867 г. вышли в свет «Очерки мордвы» П. И. Мельникова, где мордовская мифология впервые изложена как стройная система с различными сюжетами и персонажами, приведены общественные и частные моления в честь божеств. Эта работа оказала значительное влияние на последующие более обширные труды о ее религиозных воззрениях и обрядах К. Митропольского, А. Примерова и др.
Существенно расширил и углубил разыскания П. И. Мельникова В. Н. Майнов в исследовании «Les restes de la muthologie Mordwinen» («Остатки мордовской мифологии»), изданном в 1889 г. В конце ХIХ в. с критикой мордовской мифологической системы, в которой существует определенная иерархия богов, выступил И. Н. Смирнов: «При всем интересе, который возбуждает схема Мельникова – Майнова, мы не можем не отнестись к ней с известной долей осторожности. Она слишком отдает классическими теогониями, мало вяжется с мордовскими воззрениями на богов и финской теогонией вообще» [19, 290 ]. По И. Н. Смирнову, языческие эрзянские и мокшанские божества – это автономные антропоморфные существа, так как каждый двор, колодец, озеро, роща имеют своих независимых друг от друга покровительниц. Он полагал, что П. И. Мельников ошибался, представляя мордовский Олимп в виде рода, происшедшего от богини Анге-Патяй. Сомнительным прежде всего ему представлялось само имя Анге-Патяй, которое не встречалось ни в одном из мордовских словарей.
Ясность в этот сложный вопрос внес А. И. Маскаев: «Наше личное знакомство с архивными фольклорными материалами, на основе которых Мельников-Печерский делал заключение о системе мордовской мифологии, дает нам право на защиту писателя. Эта система не выдумана автором “Очерков мордвы”, а взята, как и имя богини Анге-Патяй, из фольклорных материалов, записанных в мордовском селе Сиуха Нижегородского уезда Нижегородской губернии» [8, 130]. Точки зрения И. Н. Смирнова и П. И. Мельникова пытался примирить Б. А. Латынин: «Мельников и Майнов констатировали у мордвы присутствие развитого пантеона божеств явлений природы, объединенных сложной системой кровного родства. Смирнов видит лишь отдельных духов-покровителей, а схему Мельникова – Майнова считает сочиненной по шаблону классической мифологии. Если же обратиться непосредственно к самому подлинному материалу, то нетрудно заметить, что правы обе стороны: у мордвы налично и то и другое» [4]. А. И. Маскаев уточняет позицию Б. А. Латынина: различные мифологические системы существовали одновременно не у одних и тех же групп, а у разных; общемордовского единства в мифологии нет, она различна у эрзян и мокшан, у этнографических групп терюхан, каратаев, шокшан. Теньгушевские эрзяне верховным богом считают Шки паза или Шким паза. Соседняя темни-ковская мокша не знает его и называет своим главным богом Шкая.
-
У. Харва поддержал точку зрения И. Н. Смирнова. Исследователь подверг критике мифологическую систему П. И. Мельникова и заключил, что его работа «ненаучна» и не должна служить руководством для тех, кто занимается изучением религиозных воззрений мордвы [28, 15 ]. Финский ученый привел сведения о матери богов Анге-Патяй из материалов архимандрита Макария, а миф о ней в «Очерках мордвы» назвал курьезным [28, 15 ]. Он сочувственно воспринял сведения М. Е. Евсевьева о том, что П. И. Мельников искаженно записал имена некоторых богов [3, 477–478 ], и признал, что И. Н. Смирнов дает полную картину религиозных воззрений мордвы [28, 17 ].
Подобной точки зрения придерживаются также ряд мордовских фольклористов и этнографов. Н. Ф. Мокшин полагает, что П. И. Мельников «сочинил миф о некоем Чам-Пасе, Шайтане и сотворении мира, который с его легкой руки стал затем кочевать по страницам многих работ как отечественных, так и зарубежных авторов» [12, 199 ]. К. Т. Самородов считает систему П. И. Мельникова более чем сомнительной: «она не совсем соответствует подлинной мордовской мифологии» [18, 8 ]. Между тем подлинность его материалов подтверждается текстами, собранными Х. Паасоненом, параллелями в сюжетах о сотворении мира и человека коми, марийской, удмуртской мифологий, более поздними (середина
XX в.) записями соответствующих мифов в Арзамасском районе Горьковской области и в Мордовии.
«Очерки мордвы» были полностью «реабилитированы» в исследованиях А. И. Маскаева [8], А. М. Шаронова [23], С. В. Пивкиной [17], Н. Г. Юрченковой [27] и др.
В XIX–XX вв. благодаря многочисленным публикациям фольклорных произведений предания, традиции, обряды мордвы стали достоянием науки.
На рубеже XX–XXI вв. интерес к работе У. Харвы усилился: возникла необходимость в переосмыслении давно известного материала. Существенное внимание ему уделено в монографиях А. М. Шаронова [23] и Н. Г. Юрченковой [27], которые отмечают выдающийся вклад финского ученого в исследование мифологии и фольклора эрзи и мокши. Значительное место мордовская мифология, представленная У. Харвой, занимает в монографиях Е. А. Шароновой (Федосеевой) [20; 24]. Литературно-художественное воплощение она нашла в эпосе «Масторава» (мифы о сотворении мира, человека, Анге-Патяй, грехопадении) [22].
-
У. Харва первым из зарубежных ученых серьезно рассмотрел мифологорелигиозные воззрения эрзян и мокшан на обширном источниковедческом и историографическом материале, значительно развил финно-угристику, в частности в плане изучения истории и культуры мордвы. Его исследование имеет большое значение для современности [14], так как интерес к финно-угорским народам вообще и к эрзе и мокше в частности – их культуре, традициям, истории, роли в формировании и становлении Российского государства – чрезвычайно высок и демонстрируется на всех уровнях политической, научной, культурной и социальной жизни страны.
Список литературы Значение труда У. Харвы «Die religiosen vorstellungen der mordwinen» в контексте исследований фольклора эрзи и мокши
- Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 1. -Саранск: МНИИЯЛИ, 1940. -436 с.
- Дубасов, И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Вып. 1. -Тамбов, 1890. -225 с.
- Евсевьев, М. Е. Избранные труды. Т. 5. Историко-этнографические исследования. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. -552 с.
- Латынин, Б. А. Архаический эквивалент мифа о Тристане и Исольде в мордовском фольклоре//Тристан и Исольда. -Л., 1932. С. 217218.
- Лихачев, Д. С. Итоги тысячелетнего опыта/Д. С.Лихачев//Огонек. -1988. -№ 10. -С. 9-12.
- Майнов, В. Н. Один день среди мокши/В. Н.Майнов//Древняя и новая Россия. -1878. -Т. 3, № 10. -С. 117-134.
- Маркелов, М. Т. Саратовский этнографический сборник/М. Т. Маркелов. -Вып. 1. -Саратов, 1922. -276 с.
- Маскаев, А. И. Мордовская народная эпическая песня/А. И. Маскаев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1964. -440 с.
- Мельников, П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы/П. И.Мельников. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981. -136 с.
- Милькович, К. Быт и верования мордвы в конце XVIII столетия/К. Милькович//Тамбовские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. -1905. -№ 18. -С. 815-831.
- Митропольский, К. Мордва. Религиозные воззрения их, нравы и обычаи/К. Митропольский//Тамбовские епархиальные ведомости. -1876. -№ 12 -13. -С. 355-378.
- Мокшин, Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников/Н. Ф. Мокшин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. -240 с.
- Мокшин, Н. Ф. Религиозные верования мордвы/Н. Ф. Мокшин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1998. -246 c.
- Мокшина, Е. Н. Историография религиозной жизни мордовского народа [Электронный ресурс]//Регионология. -2012. -№ 4. -Режим доступа: http://regionsar.ru/node/1025. -Дата обращения: 5.6.2013.
- Пашуткина, В. Н. Мифология и религия эрзи и мокши в книге У. Харвы «Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen» («Религиозные воззрения мордвы»)//Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. -2009. -№ 2. -С. 189-194.
- Петербургский, И. М. Материальная и духовная культура мордвы в VII-X вв.: монография/И. М. Петербургский. -Саранск, 2011. -408 с.
- Пивкина, С. В. П. И. Мельников-Печерский как собиратель и исследователь фольклора нижегородской мордвы: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Казань, 2013. -23 с.
- Самородов, К. Т. Мордовская обрядовая поэзия/К. Т. Самородов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1980. -168 с.
- Смирнов, И. Н. Мордва/И. Н. Смирнов. -Казань, 1895. -299 с.
- Федосеева, Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция/Е. А. Федосеева. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. -212 с.
- Халанский, М. Заметки по славянской народной поэзии/М. Халанский//Русский филологический вестник. -Варшава, 1888, Т. 19. -С. 40-44.
- Шаронов, А. М. Масторава/А. М. Шаронов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1994. -496 с.
- Шаронов, А. М. Мордовский героический эпос: сюжеты и герои/А. М. Шаронов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2001. -207 с.
- Шаронова, Е. А. Эрзянский героический эпос: аутентичная и книжная формы. Историко-типологический анализ/Е. А. Шаронова. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. -346 с.
- Шахматов, А. А. Мордовский этнографический сборник/А. А. Шахматов. -СПб., 1910. -848 с.
- Юртов, А. Ф. Образцы мордовской народной словесности. Вып.1/А. Ф. Юртов. -Казань, 1882. -232 с.
- Юрченкова, Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса/Н. Г. Юрченкова. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. -156 с.
- Harva, U. Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen/U. Harva. Helsinki, 1952. 456 s.
- Mainof, W. Les restes de la mythologie Mordvine//Journal de la societe Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 159 р.