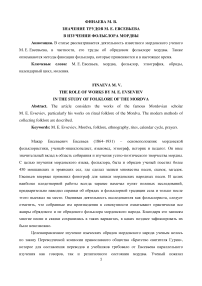Значение трудов М. Е. Евсевьева в изучении фольклора мордвы
Бесплатный доступ
В статье рассматривается деятельность известного мордовского ученого М. Е. Евсевьева, в частности, его труды об обрядовом фольклоре мордвы. Также описываются методы фиксации фольклора, которые применяются и в настоящее время.
Календарный цикл, м. е. евсевьев, моления, мордва, обряды, фольклор, этнография
Короткий адрес: https://sciup.org/147249688
IDR: 147249688 | УДК: 398(=511.152)
Текст научной статьи Значение трудов М. Е. Евсевьева в изучении фольклора мордвы
Макар Евсевьевич Евсевьев (1864–1931) – основоположник мордовской фольклористики, ученый-энциклопедист, языковед, этнограф, историк и педагог. Он внес значительный вклад в область собирания и изучения устно-поэтического творчества мордвы. С целью изучения мордовского языка, фольклора, быта и обрядов ученый посетил более 450 мокшанских и эрзянских сел, где сделал записи множества песен, сказок, загадок. Евсевьев впервые применил фонограф для записи мордовских народных песен. В целях наиболее плодотворной работы всегда заранее намечал пункт полевых исследований, предварительно наводил справки об обрядах и фольклорной традиции села и только после этого выезжал на место. Оценивая деятельность исследователя как фольклориста, следует отметить, что собранные им произведения в совокупности охватывают практически все жанры обрядового и не обрядового фольклора мордовского народа. Благодаря его записям многие песни и сказки сохранились в таких вариантах, в каких позднее зафиксировать их было невозможно.
Целенаправленное изучение языческих обрядов мордовского народа ученым велось по заказу Переводческой комиссии православного общества «Братство святителя Гурия», которое для составления переводов и учебников требовало от Евсевьева параллельного изучения как говоров, так и религиозного состояния мордвы. Ученый показал 1
миссионерским деятелям «насколько прочно языческие обряды вошли в религиозное сознание мордвы, переплелись с обрядами христианскими, слились с церковными праздниками», – пишет И. А. Зеткина [2, с. 35]. Сведения, полученные комиссией от него, убедили ее в необходимости миссионерской деятельности путем открытия школ и издания «вероучительных» произведений на мордовском языке.
В числе работ, посвященных религиозной жизни мордовского народа, в наследии Евсевьева наиболее значимы две: «Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии» (1914) в журнале РГО «Живая старина» и «Мордва Татреспублики» (1925) в сборнике «Материалы по изучению Татарстана» [1; 5].
В статье «Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии» ученый описал религиозное состояние мордвы, ее языческие моления, обряды и праздники, справлявшиеся на протяжении всего годового цикла. По мнению Г. А. Корнишиной, «яркое детальное описание традиционной обрядности позволило М. Е. Евсевьеву показать богатство повседневной мордовской культуры, ее ценность для мировой культуры» [7, с. 142]. Исследователь привел подробное описание общественных молений «Моление под липой», совершаемых мордвой в первый день Троицы, «Моление у родника» – во второй день праздника, осенних семейных молений «Юрт озкс» (моление богине дома) и «Калдаз озкс» (моление двора), проходивших в с. Волгапино Краснослободского уезда Пензенской губернии.
Данная публикация содержит ценный материал для изучения мордовской календарнообрядовой поэзии, понимания ее идейного и образного содержания, а также отдельные образцы великопостных эрзянских песен «уянамат» (4 текста) и вербных песен (3 текста), записанных автором в 1910 г. в эрзянской деревне Кардафлей Городищенского уезда Пензенской губернии. Все тексты песен представлены с параллельным переводом на русский язык.
Характеризуя местные фольклорные традиции деревни, Евсевьев писал, что «в великий пост кардафлейский мордвин не ест скромной пищи, но шум и песни на улице раздаются до самой зари» [4, с. 363]. В песнях «уянамат», исполнявшихся в этот период, содержатся мотивы величания парня и девушки в качестве жениха и невесты. По сообщению автора, каждый вечер в течение Великого поста молодежь ходит по деревне и перед каждым домом, где живут парень или девушка, поет песни следующего содержания:
Дугам, дугам, а Натай, а Натай, О, сестрица, сестрица, Наталия, Наталия,
Мазы дугам, а Натай, а Натай, Красавица сестрица, Наталия,
Ки Натаень тетяза, тетяза
Ки Натаень аваза, аваза?
Максим атя, тетяза, тетяза,
Максим баба, аваза, аваза.
Кто у Натальи батюшка?
Кто у Натальи матушка?
Максим старик (отец предполагаемого жениха) ее батюшка,
Жена Максима (мать жениха) ее матушка.
[1, с. 21].
В дни Великого поста исполнялись и вербные песни, связанные непосредственно с языческим праздником. Они проводились у мордвы в ночь на Вербное воскресенье в честь Вармавы (матери вербы, богини весеннего ветра). Евсевьев отмечает, что в субботу вечером девушки готовили ритуальную еду (пельмени с рыбой, кашу) и совершали моление. Заранее приглашенная бабушка читала молитвы, в которых просила Вармаву «дать девицам здоровья и сохранить их от дурной славы; уродился бы на их счастье хлеб, размножился бы скот [1, с. 22]. После молитвы все участники праздника садились за стол и начинали трапезу.
Перед рассветом молодежь с веточками вербы в руках отправлялась по домам. Подойдя к дому, она пела:
Стяка, урькай, стякая! Вставай-ка, невестушка, вставай-ка!
|
Кели ортань панжема! |
Широкие ворота отворяй-ка! |
|
Тейтерерь тякань нолдама! |
Девиц-молодиц впускай! |
|
Иляка пель, урякай, |
Ты не бойся, невестушка, |
|
Верминеса чавтадызь, |
Вербой мы тебя похлещем, |
|
Омбонь те шкас правтадызь. |
До другого года здоровья дадим. |
[1, с. 22-23].
Когда отпирались ворота, девушки входили в избу и хлестали всех спящих вербой, при этом напевая:
|
Вай, удыда, удыда, |
О, спите, спите, |
|
Иляда пель сыргыстяд! |
Не бойтесь, что проснетесь! |
|
Верминеса верматадызь |
Вербой мы вас побьем, |
|
Омбонь те шкас правтадызь, |
До другого года здоровья дадим, |
|
Чачи сюронь чачемга, |
Для хорошего урожая, |
|
Шумбрачинень улемга. |
Для доброго здоровья. [1, с. 22-23]. |
Обойдя дома всех участников, молодежь отправлялась на берег речки, к мосту, ведущему на другую сторону деревни. Туда же приходили участники и из другой части деревни. Здесь девушки, встав друг сторону песней:
напротив друга, начинали хулить противоположную
На той стороне девушки
Прядут нитки, годные для ватолы,
Холсты ткут, что полога,
Вышивают узоры слабые (т. е. не плотные).
Тона пелень тейтерьтне, Ватэла сурень щерьдитьне, Полэк коцтэнь кодытьне! Лавча арфэнь викшнитьне!
[1, с. 23].
В рождественский сочельник у мордвы деревни Кардафлей проходило традиционное зимнее колядование. В этот день дети ходили по домам, пели песни-колядки и собирали в угощение специальные пирожки - калядань пярякат (м), калядань прякинеть (э). В песнях просили о хорошем урожае хлеба. Евсевьев отмечает, что данный обычай был весьма распространен у мордвы, и колядовать ходили не только дети, но и взрослые. «В каждую избу, перед тем как начать петь коляду, бросают горсть разных хлебных зерен со словами: «Тити-пити, сараскеть, зняра зернат каинь, зняра одоният пиресэнк улест» (Тити-пити, курочки, сколько зерен я бросил, пусть столько одоньев будет у вас на гумне)», -пишет Евсевьев [4, с. 374].
В работе «Мордва Татреспублики» исследователь подробно описывает язык, традиционные костюмы и языческие моления, совершаемые в мокшанском с. Урюм Тетюшского уезда Казанской губернии. Он выделяет три вида молений, совершаемых в течение года: общественные, случайные и семейные.
Осенью по окончании всех полевых работ и возвращении скота с пастбищ домой на зимовку у мордвы совершались семейные моления «Юрт озкс» (моление богине дома) и «Калдаз озкс» (моление двора). Их проведение имело сугубо практическое назначение: обращаясь к богам с молитвами, народ просил об увеличении поголовья скота, уберечь дом и семью от напастей и болезней, скот от падежа и т.д. Описывая обряд «Калдаз озкс» (мокш.), Евсевьев сообщает, что по середине двора ставился стол, покрытый белой скатертью, на нем расставлялись разные кушанья. После чего обращались с молитвой к божеству двора Калдазаве (мокш.), Кардазсярко (эрз.) и просили о сохранении скота. По окончании моления кусочки угощения оставляли в хлевах, а сами возвращались домой обедать. Надо отметить, что данный обряд и сейчас бытует в мордовских селах Темниковского района Республики Мордовия.
Собранные во время полевых работ фольклорные материалы Евсевьев публикует в сборнике «Эрзянь морот» («Эрзянские песни», 1928). В нем, наряду с историческими, бытовыми, солдатскими и девичьими песнями, был специально выделен раздел «Эйкакшонь 4
морынеть, калядат, содамо-евскеть» («Детские песни, колядки, загадочки») [6, с. 171-176]. В него вошли 11 образцов текстов песен «Эйкакшонь калядат» («Детские колядки») (среди них: «Каляда! Кудыкеле чекине!» («Коляда! В сенях талька!»), «Каляда! Тинге, тинге, тингине!» («Коляда! Гумно, гумно, гумнушко!»), «Каляда! Течи чизэ каляда!» (Коляда! Нынче день коляды!»), «Каляда! Авам илейсэ чавимим!» («Коляда! Мать прутиком меня побила!») и др.) и 5 текстов песен: «Покш тейтерень калядат» («Колядки взрослых девушек») («Каляда! Каляда! Чачи сюро чачозо!» («Коляда! Коляда! Обильный хлеб чтоб уродился!»), «Каляда! Каляда! Адя, ялгай, покш паксяв!» («Коляда! Коляда! Пойдем, подруга, в большое поле!») и др.).
Стоит отметить, что детские колядки по форме и содержанию близки к колядкам, исполняемым взрослыми девушками. Однако в поэтических текстах отсутствуют мотивы величания хозяев и пожелания благополучия:
Каляда! Кудыкеле чекине,
Каляда! Монь бабинем текине,
Каляда! Тука, бабай, прякине,
Каляда! Ойсэ ваднезь улезэ, Каляда! Кептереван чудезэ!
Коляда! В сенях талька,
Коляда! Моя бабушка единственная,
Коляда! Подай-ка, бабушка, пирожок,
Коляда! Чтоб был он помазан маслом,
Коляда! По моему кузовку чтоб оно растекалось!
[3, с. 481-483].
В колядках взрослых девушек содержится пожелание богатого урожая хозяевам дома:
Каляда! Каляда! Чачи сюро чачозо!
Каляда! Каляда! Масторонзо лазозо!
Каляда! Каляда! Ажияшка олгозо!
Коляда! Коляда! Обильный хлеб чтоб уродился!
Коляда! Коляда! Чтоб земля расступилась!
Коляда! Коляда! Чтоб с оглоблю его солома!
Каляда! Каляда! Локшо недьшка колозозо!
Каляда! Каляда! Ал тюжашка зёрназо.
Каляда! Каляда! Пеште лукшка сювазо!
Коляда! Коляда! Чтоб с кнутовище его колос!
Коляда! Коляда! Чтоб с яичный желток зерно!
Коляда! Коляда! Чтоб с ореховую скорлупу мякина!
Каляда! Каляда! Тука, бабай, прякине!
Каляда! Каляда! Пойма паксянь,
Коляда! Коляда! Подай-ка, бабушка, пирожок!
Коляда! Коляда! Из пойменных залежных
од модань,
земель!
Каляда! Каляда! Чачомо иень тювзюронь!
Каляда! Каляда! Ойсэ ваднезь улезэ, Каляда! Каляда! Кептереван чудезэ!
Коляда! Коляда! Из урожайной пшеницы!
Коляда! Коляда! Чтоб помазан был маслом,
Коляда! Коляда! Чтоб по кузовку растекалось (масло)!
[3, с. 486-489].
Некоторые образцы обрядовых песен, записанных ученым, продолжают бытовать и сегодня. Так, в ходе фольклорно-этнографической экспедиции 2019 г., проходившей в с. Лесное Ардашево Темниковского района Республики Мордовия, удалось зафиксировать вариации двух календарных песен из его коллекции: «Каляда! Каляда! Шачи серось шачеза!» («Коляда! Коляда! Посеянная рожь выросла бы!») и «Стяка, рьвянякай, стяка!» («Вставай-ка, невестушка, вставай-ка!»).
Отметим, что все поэтические тексты песен в указанном сборнике представлены без перевода на русский язык и без сведений об их записи. Перевод текстов колядок нами был взят из другого источника автора [3].
В 60-е гг. XX в. собранные фольклорные материалы ученого были переизданы в пятитомнике «Избранные труды». В приложении второго тома, опубликованного в 1963 г., приводятся отдельные образцы поэтических текстов колядок: новый текст, изъятый из личного архива Евсевьева «Косо эри вирь сараз» («Где водится тетерев»), а также опубликованные ранее в сборнике «Эрзянь морот» тексты песен «Эйкакшонь калядат» (11 текстов) и «Покш тейтерень калядат» (5 текстов). Важно то, что в отличие от первой публикации здесь тексты песен даны с параллельным переводом на русский язык. Все произведения в издании снабжены примечаниями, где указываются паспортные данные, некоторые сведения о бытовании, которые были сообщены самими исполнители, а в ранее опубликованных произведениях отмечаются данные об их публикации [3]. В пятый том издания «Избранные труды» (1966) вошли основные историко-этнографические исследования Евсевьева по традиционной мордовской обрядовой культуре мордвы, в частности, его работы «Мордовская свадьба», «Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии», «Мордва Татреспублики» и др. В приложении к тому был представлен список населенных пунктов, которые ученый посетил во время своей экспедиционной деятельности.
М. Е. Евсевьев является первым национальным фотографом-ученым, который зафиксировал многообразие бытовой культуры мордвы, оставил богатейшее собрание фотографий, из которых до нас дошла лишь незначительная часть. Как сообщает Т. А. Шигурова, «в негативах представлены многие стороны мордовской культуры конца XIX – начала XX века, так что они могут служить незаменимым иллюстративным источником для разностороннего и углубленного изучения материальной и духовной культуры мордовского этноса» [8, с. 19]. Сегодня снимки, сделанные ученым, хранятся в Центральном государственном архиве Республики Мордовия, в Научно-исследовательском институте гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И. Д. Воронина.
В настоящее время в МГПИ им. М. Е. Евсевьева располагается Мемориальный музей автора, основанный в 1983 г. профессором Е. Г. Осовским. В нем представлены различные документы и материалы, характеризующие жизнь и научно-педагогическую деятельность ученого-просветителя, библиотека его учебной литературы, труды учеников и последователей. Отдельная экспозиция в музее посвящена А. Ф. Юртову, учителю М. Е. Евсевьева.
Труды М. Е. Евсевьева, посвященные изучению фольклора в комплексе с обрядами мордвы, представляют собой ценнейший материал, запечатлевший традиционную культуру мордовского народа в том в виде, в котором в настоящее время увидеть и услышать ее образцы не представляется возможным.
Список литературы Значение трудов М. Е. Евсевьева в изучении фольклора мордвы
- Евсевьев М. Е. Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии // Живая старина. - СПб., 1914. - С. 1-44.
- Зеткина И. А. Макар Евсевьев. - Саранск: Издатель Константин Шапкарин: Ассоциация выпускников МГУ им. Н. П. Огарева, 2014. - 43 с.
- Евсевьев М. Е. Избранные труды: в 5 т. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1963. - Т. 2. - 528 с.
- Евсевьев М. Е. Избранные труды: в 5 т. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. - Т. 5. - 552 с.
- Евсевьев М. Е. Мордва Татреспублики // Материалы по изучению Татарстана. - Казань, 1925. - С. 179-196.
- Евсевьев М. Е. Эрзянь морот. - М.: СССР-энь наротнэнь центр. изд-вась, 1928. - С. 171-176.
- Корнишина Г. А. Проблемы религиозно-обрядовых традиций мордвы в трудах М. Е. Евсевьева // Междунар. журн. приклад. и фундам. исслед. - 2014. - № 5. - С. 142-143. EDN: SBZPAF
- Шигурова Т. А. История культуры и искусства Мордовии: учеб. пособие. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. - 80 с.