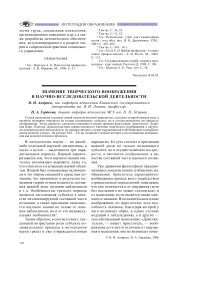Значение творческого воображения в научно-исследовательской деятельности
Автор: Андреев В.И., Гордеева Н.А.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Психология образования
Статья в выпуске: 1 (42), 2006 года.
Бесплатный доступ
Статья выполнена в рамках новой психологической парадигмы, согласно которой важная роль в научном познании отводится не только познающему субъекту, но и осуществляемому им процессу воображения. Этому процессу уделялось внимание в трудах древних философов: Аристотеля, Лукреция Кара, Платона. Доказательством первостепенного значения творческого воображения в научноисследовательской деятельности, по мнению авторов, служат высказывания и обобщающие самонаблюдения великих ученых. На рубеже XIX - XX вв. возникает особый интерес к исследованию воображения как психологического процесса.
Короткий адрес: https://sciup.org/147136105
IDR: 147136105
Текст научной статьи Значение творческого воображения в научно-исследовательской деятельности
Статья выполнена в рамках новой психологической парадигмы, согласно которой важная роль в научном познании отводится не только познающему субъекту, но и осуществляемому им процессу воображения. Этому процессу уделялось внимание в трудах древних философов: Аристотеля, Лукреция Кара, Платона. Доказательством первостепенного значения творческого воображения в научноисследовательской деятельности, по мнению авторов, служат высказывания и обобщающие самонаблюдения великих ученых. На рубеже XIX—XX вв. возникает особый интерес к исследованию воображения как психологического процесса.
В методологии науки — не какой-либо отдельной научной дисциплины, а науки в целом — выделяются три пара-дигмальных периода. Первый характеризовался тем, что в научном знании считалось возможным выражать лишь то, что относится к изучаемым наукой объектам. Второй был ознаменован включением в это знание сведений о средствах познания, что произошло в результате появления теории относительности, осознания важной роли позиции наблюдателя и т. д. Особенностью третьего периода является легализация субъекта в качестве неэлиминируемой составной части познания, а также признание зависимости научного знания не только от позиции наблюдателя, но и от его индивидуальных особенностей1.
Таким образом, в соответствии с тенденцией возрастания роли субъекта познавательного процесса в методологии науки грядет и уже утверждается новая парадигма. Ее суть состоит в признании важной роли не только познающего субъекта, но и осуществляемого им процесса, в частности воображения, в качестве составной части научного познания.
Уже древними философами предпринимались попытки понять и объяснить воображение. Аристотель характеризует воображение прежде всего посредством отрицательных определений, показывая, что оно отличается и от ощущения (хотя без последнего не может состояться), и от мышления, но не является также мнением и знанием. В положительном плане воображение, по Аристотелю, есть способность человека, благодаря которой у него возникает образ, в одних случаях ведущий к заблуждению, а в других — способствующий мышлению. «Действительно, — пишет Аристотель, — воображение есть нечто отличное от ощущения и мышления; оно не возникает поми- мо ощущения, и без воображения невозможно никакое составление суждения. Ведь оно есть состояние, зависящее от нас самих... воображение оказывается одной из тех способностей или свойств, посредством которых мы обсуждаем, добиваемся истины или заблуждаемся»2. Эмпирически все это понятно, теоретически же здесь сплошные парадоксы: воображение — не ощущение, но без него не существует, оно не есть мышление, но любое суждение предполагает воображение, и т. д.
Надо сказать, что и современная психология не прояснила природы воображения, если не запутала вопрос еще больше. С одной стороны, здесь те же самые характеристики воображения, заимствованные у Аристотеля. С другой — воображение часто редуцируется к процедурам творчества и мышления, а также к установке и планированию будущих продуктов или промежуточных состояний деятельности. Кроме того, определенные виды воображения (так называемое пассивное воображение) сближаются с первыми фазами сновидения, или пустыми грезами. Как все эти характеристики воображения связаны между собой, в какой онтологии их можно осмыслить, остается неясным.
Вероятно, именно Аристотель спровоцировал понимание воображения (а также ощущения, мышления и памяти) как способности души.
В I в. до н. э. ученик Эпикура римский философ и поэт Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» подчеркивал, что возникновение новых образов является следствием случайного сочетания, комбинации. Философ попытался раскрыть некоторые механизмы, указывая на особую гибкость и тонкость процесса. По его мнению, образы появляются,
Частью сами собой возникая в пространстве воздушном, Частью от разных вещей отделяясь и прочь отлетая
И получаясь из образов их, сочетавшихся вместе.
Ведь не живым существом порождается образ Кентавра, Ибо созданий таких никогда не бывало, конечно;
Но, коли образ коня с человеческим как-то сойдется,
Сцеплялись тотчас они, как об этом сказали мы раньше, Вследствие легкости их и строения тонкого ткани.
Так же и прочее все в этом роде всегда возникает.
Необычайно легко и с такой быстротой они мчатся,
Как указал я уже, что любые из образов легких Сразу, ударом одним, сообщают движение духу.
Тонок ведь ум наш и сам по себе чрезвычайно подвижен3.
Наиболее интересный пример применения в античности воображения в целях мышления мы находим в диалоге Платона «Пир», посвященном прославлению бога любви. Этот пример интересен не только тем, что сам Платон демонстрирует богатое воображение, создавая удивительные образы, но и тем, что он помогает слушателям диалога вообразить нужное.
В «Пире» мы встречаем несколько интересных образов. Во-первых, это образ двух Афродит. Один из участников диалога, Павсий, говорит, что нужно различать двух разных Эротов, богов любви, соответствующих двум Афродитам — Афродите простонародной (пошлой) и Афродите возвышенной (небесной), и что только последняя полна всяческих достоинств.
Во-вторых, образ андрогина и его метаморфоз. Еще один участник диалога, Аристофан, рассказывает историю, согласно которой каждые мужчина и женщина произошли от единого андрогинного существа, рассеченного Зевсом в доисторические времена на две половины. «Итак, — говорит Аристофан, — каждый из нас — эта половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем, принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины (андрогина женского пола), к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому»4.
В-третьих, образ, описывающий путь людей, которые, как выражается Диоти-ма, разрешаются в любви духовным бременем. «Те, — говорит Диотима Сократу, — у кого разрешиться от бремени стремится тело, обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно — ведь есть и такие — беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели... каждый, пожалуй, предпочитает иметь таких детей, чем обычных»5. Понятно, что эти образы предполагали богатое воображение.
Предпосылки научно-исследовательской деятельности основаны также на «образном» языке. Доказательством тому могут служить высказывания великих ученых, обобщающие их самонаблюдения.
А. Эйнштейн, например, заметил: «По-видимому, слова языка в их письменной или устной форме не играют никакой роли в механизме мышления. Психологические сущности, которые, вероятно, служат элементами мысли, — это определенные знаки и более или менее ясные зрительные образы, которые можно „произвольно11 воспроизводить или комбинировать между собой... вышеуказанные элементы в моем случае имеют визуальный характер»6.
Основной «язык» творческого мышления — это зрительные образы, о чем свидетельствует история науки. В создании А. Эйнштейном теории относительности заметную роль сыграли образы часов и падающего лифта, в открытии Ф. А. Кекуле формулы бензольного кольца — образ змеи, кусающей себя за хвост. И. П. Павлов опирался на образ телефонной станции как на визуализированную модель нервной системы7.
Если самонаблюдения людей науки говорят о том, что зрительные образы широко используются в научной деятельности и полезны для нее, то психологические исследования демонстрируют, что эти образы необходимы: человек может помыслить какое-либо понятие, только визуализировав его.
История науки запечатлела немало ярко выраженных «визуализаторов», таких как А. Эйнштейн или М. Фарадей, причем последний, по свидетельству очевидцев, всегда опирался на зрительные образы и «вообще не использовал алгебраических репрезентаций». Практически все выдающиеся физики отличались ярко выраженным творческим воображением. Интересна гипотеза о том, что в физике основное условие победы одних научных парадигм над другими — создание лучших возможностей для визуализации знания, и поэтому вся история данной науки может быть представлена как история визуализации физических понятий.
С психологической точки зрения осознанию решения любой творческой задачи, феноменологически воспринимаемому как его нахождение, всегда предшествует воображение. В сознании людей всплывают лишь те решения, которые «проиграны» зрительно. Ключевая роль образов в процессе научной деятельности закономерна, поскольку в качестве материала они имеют ряд преимуществ по сравнению с понятиями. Во-первых, понятия скованы языком, ограничены логическими отношениями. Мысля в понятиях, трудно выйти за пределы общеизвестного и осуществить собственно творческий акт. Образы же свободны от ограничений логики и языка и поэтому при наполнении онтологическим содержанием позволяют получить новое знание. Во-вторых, понятия дискретны, представляют собой фрагменты реальности, отсеченные от нее своими логическими пределами. А образ непрерывен, он может вбирать в себя любое онтологическое содержание и плавно перетекать в другие образы.
В-третьих, понятия унифицированы и плохо приспособлены для выражения «личностного знания», индивидуального опыта человека, лежащего в основе творческого мышления. Образы же позволяют запечатлеть этот опыт во всей его уникальности и включить в мыслительный процесс.
В научно-исследовательской деятельности воображение играет большую роль. Оно выполняет функции программирования и прогнозирования деятельности субъекта путем создания модели конечного или промежуточного ее продукта. Творчество представляет собой комплексную проблему, ставшую предметом исследования большого круга различных специалистов. Воображение — одно из условий научного исследования в процессе творческого познания. «Творчество в науке состоит в формировании знания, отображающего действительность. Оно дает объяснение новому кругу явлений, способствуя предвидению тенденций развития»8.
Научно-исследовательская деятельность невозможна без участия воображения. Часто встречается трактовка научного познания как решения задачи путем перебора различных вариантов. Это — так называемая теория «проб и ошибок». Данный способ познания характерен для людей с неразвитым воображением. Законом этого метода является чистый случай. В действии в поле свободного выбора всегда участвует способность продуктивного воображения.
Участвуя вместе с мышлением, памятью и вниманием в процессе научно- исследовательской деятельности, воображение выполняет в ней специфическую функцию, отличную от той, которую выполняют все остальные психические функции. Специфическая роль воображения заключается в том, что оно преобразует образное, наглядное содержание исследовательской проблемы и этим содействует ее разрешению.
В научно-исследовательской работе важна продуктивность воображения, которая способствует получению субъективно нового знания, позволяет делать открытия.
В процессе развития психологии, педагогики и философии существенно менялось отношение к дефиниции воображения как научной проблеме. Особый интерес к воображению как психическому процессу возник сравнительно недавно — на рубеже XIX—XX вв. К этому времени относятся первые попытки экспериментального исследования функции воображения (С. Д. Владычко, В. Вундт, Ф. Матвеева, Э. Мейлан, Л. Л. Мищенко, Т. Рибо). Постепенно расширялись аспекты изучения проблемы, разрабатывались методики, позволяющие экспериментальным путем исследовать функцию воображения, предпринимались попытки теоретического осмысления полученных данных, рассматривались вопросы взаимоотношения воображения с другими познавательными процессами. Работа в этой области велась преимущественно в двух направлениях: в рамках первого изучалось развитие воображения в онтогенезе (Л. С. Выготский, И. Г. Батоев, А. Я. Дудецкий, О. М. Дьяченко, Г. Д. Кириллова, А. В. Петровский, Д. Б. Эльконин и др.), второго — функциональное развитие данного процесса (Е. И. Игнатьев, Э. В. Ильенков и др.).
Таким образом, роль воображения в творчестве и, особенно, в научно-исследовательской деятельности неоспоримо велика, о чем свидетельствует интерес к этой проблеме, проявляемый как древними философами, так и учеными наших дней. Именно творческое воображение служит главным механизмом порождения нового знания, отводя формальной логике довольно скромную роль. Поэтому проблема развития творческого воображения сегодня является сверхактуальной.
Первые попытки создания технологии саморазвития творческого воображения студентов были осуществлены в совместной работе кафедры педагогики Казанского госуниверситета и кафедры психологии Мордовского госуниверситета в 1996 г.9 Именно развитие творческого воображения студентов, на наш взгляд, открывает новые горизонты повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, так как личность ученого формируется в студенческом возрасте. Тогда же проявляется способность к рефлексии — знанию о границе собственных знаний и умению выходить за эти границы.
Выявление психологических особенностей творческого воображения студентов, занимающихся научно-исследова тельской деятельностью, а также его развитие, направленное на раскрепощение, освобождение человека от скованности формальной логикой и другими стереотипами, выступает темой дальнейшего исследования ученых двух вузов.