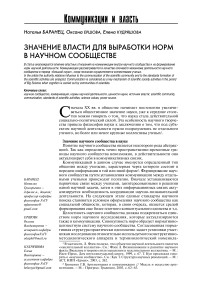Значение власти для выработки норм в научном сообществе
Автор: Баранец Наталья Григорьевна, Ершова Оксана Владимировна, Кудряшова Елена Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и власть
Статья в выпуске: 7, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние властных отношений на коммуникации внутри научного сообщества и на формирование норм научной деятельности. Коммуникация рассматривается в качестве ключевого механизма деятельности научного сообщества в период «большой науки», когда познание осуществляется коллективами ученых.
Научное сообщество, коммуникация, нормы научной деятельности, ценности науки, источник власти
Короткий адрес: https://sciup.org/170165928
IDR: 170165928
Текст научной статьи Значение власти для выработки норм в научном сообществе
БАРАНЕЦ Наталья
С начала XX вв. в обществе начинает постепенно увеличиваться общественное значение науки, уже к середине столетия можно говорить о том, что наука стала действительной социально-политической силой. Эта особенность научного творчества привела философов науки к заключению о том, что под субъектом научной деятельности нужно подразумевать не отдельного ученого, но более или менее крупные коллективы ученых1.
Значение научного сообщества в науке
Понятие научного сообщества является некоторого рода абстракцией. Так как определить точно пространственно-временные границы научного сообщества невозможно, в действительности оно актуализирует себя в коммуникативных связях.
Коммуникацией в данном случае именуется определенный тип общения между учеными, характерная черта которого состоит в передаче информации в той или иной форме2. Формирование научного сообщества путем установления коммуникации между отдельными учеными происходит поэтапно. Вначале устанавливаются первичные связи между учеными, заинтересованными в решении одной научной задачи, затем в этих информационных связях актуализируется необходимость координации научно-познавательной деятельности. На следующем этапе единые стандарты научного поиска становятся условием оформления научного сообщества как социальной общности, которая, в свою очередь, является средой формирования еще более плотного концептуального единства и т.д.
Целостность научного сообщества должна подкрепляться единством норм научного исследования, которые актуализируются также в коммуникации. Совокупность норм образует нормативноценностную систему научного сообщества. Согласованная нормативная структура практически однозначно задает установки участникам исследования относительно используемого конструктивнометодологического аппарата и терминологической номенкла- туры, жанровых характеристик, образцов сотрудничества и социального контроля.
Нормативно-ценностный комплекс, задавая определенные рамки достоверности, формирует нормативно-ценностное самосознание науки, которое проявляется в профессиональной ответственности ученого за хранение, передачу, использование специализированной суммы знаний.
«Наука и власть» и «наука как власть»
Будучи социальной общностью особого рода, научное сообщество оформляется в условиях наличия властных отношений. Следует отметить, что тематика власти может оформляться в двух плоскостях: в отношении «наука и власть» и в особом модусе понимания самой науки – «науки как власти».
Отношение «наука и власть» координируется в связи с влиянием экономических, юридическо-правовых, идеологических институтов власти на социальный институт науки, а также в связи с социально-политическими ожиданиями – на результаты научных исследований. В философии науки соответствующая проблематика была осмыслена в работах И. Канта, Г. Гегеля, Г. Когена, П. Наторпа, В. Виндельбанда, Э. Гуссерля и основателя социологии знания К. Мангейма. Общей идеей указанных авторов было понимание власти как государственной власти, поэтому проблема отношения науки и власти трактовалась как отношение науки и государства. При этом государственная власть выступала в качестве инстанции существования и развития науки, которая, в свою очередь, лишалась автономности1.
Данный аспект рассмотрения взаимоотношений науки и власти стал особенно актуален после 1945 г. Произошло усиление государственного влияния на научное сообщество, государство стало требовать от науки решения своих собственных проблем.
В отношении «науки и власти» особо серьезную опасность представляла проблема «внешней» идеологизации науки. Здесь достаточно вспомнить трагический опыт тоталитарных обществ, в частности практику подавления свободы научных исканий в советской науке XX в. Вред советской науке принесло взаимодей- ствие централизованного политического контроля с системой философии, которая претендовала на общезначимость. Политическое, идеологическое влияние требовало определенных изощрений, чтобы не вызвать подозрения в отступлении от линии диалектического материализма и принципа партийности (утвердившейся идеологии). Все это кардинально изменило внешнюю и внутреннюю форму организации коммуникаций, повлияло на характер речи, аргументации, способов убеждения, представления рецензии. Логика научного спора – выдвижение гипотез, обсуждение аргументов, рассмотрение подтверждающих и опровергающих свидетельств – уступила место логике конъюнктурной борьбы. Отступление от кодекса научной честности стало нормой. Ярким примером могут служить дискуссии, развернувшиеся в период господства сталинской идеологии в Советском Союзе в отношении генетики, квантовой механики, кибернетики. Опыт советской науки показал, что господство идеологий, носящих принудительных характер, приводит к извращению этоса науки и стандартов научной деятельности. Выработка нормативноценностных регуляторов научной деятельности является внутренней необходимостью научного сообщества, но не идеологии официальной власти.
Иную группу проблем поднимает тематика «науки как власти». Исследования в социологии науки по соответствующей проблеме оформились в работах М. Вебера, где феномен власти стал рассматриваться в отрыве от государственноправовых институтов. При таком подходе наука начала трактоваться как способ рационализации социального действия, как определенный тип легального господства.
В последующем развитии социологии и политологии возникло противостояние двух подходов в объяснении феномена власти. Это институциональная школа (С. Липсет, Д. Ландберг, Р. Дарендорф) и поведенческое направление в политологии и в социальной философии (Э. Канетти, М. Фуко, Р. Барт). Эти концепции стремились интерпретировать власть как предельно широкий и универсальный феномен социального взаимодействия индивидов. Наука рассматривалась как особый дискурс, в котором «задействованы» меха- низмы власти. Последователи данного подхода полагали, что власть науки проявляется в выборе определенных идеалов и критериев научности, которые обеспечивают оценку одних областей знаний как научных, а других – как ненаучных.
«Наука как власть» может быть направлена не только на общество, но и на саму себя. «Власть смогла сделать знание своим объектом лишь потому, что в самом знании существовали властные отношения, и утвердилась идеология власти: ориентир на господство над природой и обществом», – пишет А.П. Огурцов1. Но и в самой науке он выявляет локальные очаги власти: отношения «учитель – ученик», «научный руководитель – аспирант», «заведующий группой – рядовые научные сотрудники» и т.п. Кроме того, в науке можно говорить о таких типах власти, как власть авторитета, научного языка, господство метода и пр. Таким образом, властные отношения по-разному пронизывают научное сообщество и научное знание. Эти типы власти неподвластны институтам государства, оформляются внутри научного сообщества.
«Наука как власть» формируется поэтапно, сначала – внутри научного сообщества, где в коммуникации кристаллизуются нормативно-ценностные регуляторы научной деятельности, характеризующиеся общностью, а затем научное сообщество стремится распространить их «вовне» посредством властного влияния.
Серьезную опасность для научного сообщества могут представлять ограничения в коммуникации. В одних случаях эти ограничения могут носить характер незаинтересованности ученых в работах друг друга, что приводит к разобщению научного сообщества и неэффективности научного поиска. В других случаях некоторые властные предпочтения внутри научного сообщества (например, власть авторитета или подхода) могут препятствовать появлению новых идей и концепций.
Препятствием для этих тенденций служит выработка особых этических норм, позволяющих реализовывать коммуникацию наиболее эффективным образом. В политической философии Ю. Хабермас сформулировал принципы «этики дискурса». Она основана на императиве участия в дискуссиях всех заинтересованных на равных правах, выработке универсальных норм дискуссии и приемлемых форм аргументации, развернутом изложении правил ведения дискуссии и запрещении переформулировать правила в пределах самой дискуссии2. Формирование подобных правил в научном сообществе способствует наиболее эффективным коммуникациям. Концептуальное и социальное единство, вырабатываемое в таких коммуникациях, позволяет научному сообществу вступать в диалог с обществом и официальной властью.
Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» по теме: «Инновационный потенциал науки в контексте эпистемологического и историкометодологического анализа науки» и гранта РГНФ по теме: «Нормативно-ценностные аспекты формирования естественнонаучной традиции в России на рубеже XIX–XX веков», 11- 11 73003а/В.