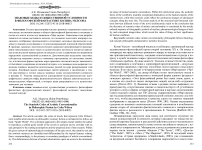Знаковые коды художественной условности в философской фантастике Колина Уилсона
Автор: Исламова Алла Каримовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается цикл романов, отражающих самые значительные достижения автора в области философской фантастики и входящих в состав его книги итогов под названием «Мир пауков». Заявленная тема разрабатывается на основе системного подхода, что позволяет воссоздать жанровую полимодель отобранных произведений и согласовать исходные предпосылки и целевые установки исследования с ее консолидированной эпической перспективой. В границах заданных эпистемологических координат предпринимается размежевание повествовательного текста и семиотического метатекста эпопеи по признакам относительной принадлежности каждого из них к первичным или вторичным парадигмам художественной условности. Дихотомическое выделение текстовых субструктур открывает доступ к межевому пространству их смысловых связей, где эстетические формы картины мира проявляют ис-ключительную зависимость от бытийного содержания излагаемой истории, а их знаковые коды выражают изменения идейных концептов запечатленных реалий по мере развертывания этой истории. Линейный анализ выявленных связей приводит к заключению о том, что расстановка и логика смысла знаковых кодов художественной условности в романах К. Уилсона определяется дискурсивной последовательностью идеографических символов мифа, феноменологических образов действительности и концепту-альных образов-идей, в которых вещи раскрываются в их ценностных значениях для человека.
Знаковые коды, художественная условность, философская фантастика, футурологический концепт, философский метатекст, повествовательный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/149127082
IDR: 149127082 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00053
Текст научной статьи Знаковые коды художественной условности в философской фантастике Колина Уилсона
Колин Уилсон - английский писатель и публицист, признанный мастер художественно-философской прозы второй половины XX в. Он вошел в литературу как представитель романного жанра, но вскоре стал известен и как оригинальный мыслитель, соединив экзистенциальные подходы к вопросу о судьбе человека в мире с прогностическими методами философии глобальных проблем. Лучшие книги К. Уилсона отличает богатство идейного содержания в сочетании с соразмерной архитектоникой - искусным построением жанровых структур, способных нести высокую смысловую нагрузку В их число входит и четырехтомная эпопея «Мир пауков» (“Spider World”, 1987-2003), где автор обобщил итоги многолетнего опыта в области философской фантастики в эпической форме единого футурологического проекта: «Этот фантазийный роман был начат очень давно, и я считаю его одной из самых интересных вещей, когда-либо созданных мною» [Brown 2011, 5]. Внешние отзывы о романе-эпопее выражают, по преимуществу, сочувственные мнения и свидетельствуют об устойчивом интересе к нему в сферах литературной критики и научных исследований. Самую высокую оценку дал Г.Ф. Доссор, охарактеризовав «Мир пауков» как «художественное достижение превосходной степени», вполне «достойное того, чтобы рассматриваться в качестве одного из главных творений воображения в двадцатом веке» [Dossor 1990, 284]. Однако высказанное суждение не изменило скептических позиций оппонентов и возобновило давние споры об отношении фантастического вымысла к эмпирическим фактам науки и реальности в произведениях К. Уилсона [Radford 2013, Gardner 1984, 361-364].
Незавершенная дискуссия дала повод для системного изучения тех знаков художественной условности, которые указывают на тождество вероятной картины будущего и актуальной действительности человеческого существования, запечатленной в книге итогов английского писателя с позиций пост-современности. Материалом для исследования послужили три первых части эпопеи - романы «Башня» (“The Tower”, 1987), «Дельта» (“The Delta”, 1987) и «Маг» (“The Magician”, 1992). В последней книге тетралогии, «Страна призраков» («Shadowland», 2003), уже сложившийся авторский концепт бытийного содержания закрепляется в новом нове- ствовательном контексте, но оформляется при помощи введенных ранее условных кодов литературного письма.
Ключевой конвенциональный код эпопеи вводится в заглавии «Мир пауков». Оно указывает на фантастическую метатему всех частей и задает принцип дискурсивной последовательности в ее проведении на каждом этапе централизованного эстетического плана. Исполнение проектного плана определяется стратегической установкой автора на целенаправленное совмещение миметических средств искусства с возможностями творческого воображения в произведениях философской фантастики: «Представляется спорным то, что попытки выстраивать “системы” и создавать иные миры являются романтическим феноменом и что они порождены стремлением отрешиться от “реальности” <...> В литературе творческое воображение всегда искало выражения в различных формах фантастики» [Wilson 1962, 41,93]. Сравнивая сумеречное царство инобытия Г.Ф. Лавкрафта и воображаемые миры будущего в историях К. Уилсона, С.Р.Л. Кларк усматривает в их широкой гуманистической перспективе главную причину успешной конвергенции реалистических и футуристических линий: «Эти истории включают некоторые элементы мифов, но они фактически и открыто ориентированы на совершенно иную цель, чем произведения Лавкрафта, - на мечту о победе человека над демонами» [Clark 2016, 12].
В «Мире пауков» мифологические, фабульные, аллегорические и иные формульные элементы знаковых кодов довольно отчетливо просматриваются на локальных участках эпической перспективы, отмеченных границами текста отдельных составляющих книг. На каждом из таких участков соподчиненные связи образуются в воссозданных автором повествовательных моделях, которые складывались на протяжении многих веков, отражая жизненные реалии, а также особенности общественного сознания и художественного мышления различных исторических эпох. В данном отношении проект К. Уилсона вполне согласуется с дихотомическими измерениями фантастического жанра по системе М. Арнаудова: в воображаемом «мире странного и невероятного сохранены принципы человеческого» и «все происходит в силу тех же основных законов, которые наблюдение открывает в реальной действительности» [Арнаудов 1970, 298]. При этом мера единства между художественным вымыслом и объективной реальностью достигается автором благодаря знакам художественной условности, обеспечивающим смысловые коннотации образов и с конкретными предметами, и с вероятностными представлениями о них. Известный семиолог и романист У. Эко писал: «Двусмысленность знаков не может быть отделена от их эстетической организации: обе они взаимно поддерживают и мотивируют друг друга» [Есо 1989, 40]. Особенность эстетической организации «Мира пауков» заключается в том, что в общую основу всех ее формульных кодов заложена идея неразрывности знака с вещью и их взаимной несводимое™ друг к другу. Несоответствие знаковых образов реальным объектам мотивируется предвзятостью априорного мировосприятия, тогда как установление позитивных связей между знака- ми и их предметными референтами объясняется результатами последующего эмпирического освоения вещей на дорогах жизни героев.
В первой части эпопеи под названием «Башня» базовую основу метода художественной условности составляют мифологические структуры. Здесь их семиотические функции вполне согласуются с теорией Р. Барта, где миф рассматривается как идеографический код первичных и неполных представлений о предметах, который утрачивает предметные коннотации по мере изменения представлений: «Миф есть истая идеографическая система, где формы еще монтированы представляемыми ими понятиями, но при том отнюдь не покрывают ими [понятиями - А.ИД всей своей изобразительной целостности. И подобно тому, как в процессе исторического развития идеограмма мало-помалу расставалась с понятием <...>, так и изношенность того или иного мифа опознается по произвольности его значения» [Барт 2014, 287]. В книге К. Уилсона условные коды мифологических архетипов вводятся в качестве коррелятов тех примитивных форм мышления и общественной жизни, которые вновь сложились на руинах цивилизации после катастрофического столкновения Земли с крупным астероидом. Антропоморфный геном мифологем претворяется здесь в конструирующий принцип художественного мира и реализуется как способ построения образов за счет перенесения человеческих свойств на окружающую среду. В результате эпическое пространство книги населяется разумными и социально организованными обитателями фауны и флоры, а также неживыми, но одушевляемыми вещами природы. В этом видимом мире тотемных верований и анимистических представлений люди отводят верхнюю ступень иерархии гигантским паукам-смертоносцам, которые благополучно пережили планетарные катаклизмы и затем превзошли все прочие виды в борьбе за выживание. Среди побежденных был и человеческий род, потому что космогенная катастрофа ослабила его, а хищные пауки довели до жалкого состояния рабства за счет психологического подавления способностей сознания: «Оказывается, между людьми и пауками шла долгая и жестокая борьба, и пауки одержали в ней верх лишь потому, что научились понимать человеческие мысли» [Уилсон 2010 а, 100].
Если архаический пласт мифологем служит основанием для фабульной расстановки антагонистических групп планетарного сообщества, то рассказ об их противоборстве организуется по типу героической саги раннего средневековья. Вместе с сюжетным движением в произведение привносится и код образного языка, соответствующего художественному мышлению той поры. В качестве знаковой фигуры здесь выступает целеустремленный и отважный герой, освобождающийся от канонов тотема и табу и вступающий в бой с чудовищными пауками-смертоносцами за то, что истинно для него самого и собратьев по роду и племени. По принятой в средневековом эпосе традиции, выдвижение на главную роль молодого человека по имени Найл мотивируется его исключительными достоинствами в сравнении с другими персонажами. Однако он наделяется не сверхъестественной силой и воинской доблестью, а чрезвычайными спо- собностями к развитию ума, необходимыми не только для успешной борьбы за истину, но и для ее глубокого понимания в жизненном значении для человека: «Смертоносцы, скажем, покорили человечество оттого, что познали людские умы. Получается, что и человек, познав сущность паучьего разума, сможет одержать когда-нибудь верх над смертоносцами» [Уилсон 2010 а, 103]. Воля к истине выводит героя на путь подвижнических деяний, а опыт и знания, приобретенные на этом пути, освобождают вопрошающий разум от власти мифа, вызывая распад архаической системы связей между условными символами и предметными содержаниями понятий.
В романе «Башня», как и в других произведениях К. Уилсона, поступательное движение по пути познания становится возможным только тогда, когда истоком волевых побуждений служат не предвзятые суждения, но стремление и готовность человека соизмерять собственные представления об истине со значениями опыта на каждом этапе жизненной стези. С великим трудом и риском для жизни Найл пробивается сквозь паучьи тенета окружающего мира и внутренние преграды собственного сознания - сначала один, а затем с группой других смельчаков-вольнодумцев, мечтающих о свободе, добре и благе для всех людей. По мере продвижения героев к цели сюжетные линии событий на их пути сплетаются в эмблематические рисунки меняющихся конфигураций. Они включают в себя условные знаки, указывающие на черты и приметы преходящих эпох: от затемненных и витиеватых стилизаций в духе средневековой готики и поздне-ренессансного барокко до ясных и прозрачных аллегорических рисунков по подобию классицистических творений века Разума. Так, столица феодального царства пауков предстает перед героем в виде устрашающего замка-спрута, оплетенного сетями подневольных уз: «Не будь даже этих огромных раскидистых тенет, он все равно смотрелся бы угрожающе и зловеще» [Уилсон 2010 а, 258]. Напротив, город предприимчивых жуков с их буржуазно-демократическими порядками видится Найлу оплотом свободного общества и просвещенного разума: «Здесь, в городе жуков, он чувствовал, что находится среди себе подобных, среди людей с такой же, как у него способностью активно мыслить и управлять своей жизнью» [Уилсон 2010 а, 441].
Во второй книге «Мира пауков», романе «Дельта», знаковые аллюзии также вводятся в рассказ в строгой последовательности и соединяются центральной сюжетной линией в соответствии с порядком событийного дискурса и логикой его смысла. При этом ход событийного повествования сопровождается постепенными изменениями знаковой среды романа по мере того, как былинно-сказочное описание явлений сменяется экспрессивным раскрытием их сущности. Дж. Уайт определяет такие изменения термином «преобразование», имея в виду трансформацию архетипических моделей в дискурсивные парадигмы литературного письма: «Преобразование представляет собой инструмент художественной литературы, который сводит к единству эти и другие способы условного изображения характеров и сюжетов» [White 2015, 11]. В книге «Дельта» единое про- странство коммуникаций создается семиотическими сетями архаических прообразов и феноменальных образов естественной среды, когда герои проникают в царство первозданной природы и постигают ее законы как элементарные нормы собственной жизни.
Обсуждая вопрос об эпистемологических границах авантюрно-философской фантастики, Е.Ю. Козьмина подчеркивает, что они обусловлены антропоцентрической моделью жанровой организации, но вполне отчетливо разделяют сферы эмпирических феноменов и гуманистических понятий об их сущности в пределах данной модели: «Конститутивные человеческие качества, то есть те, которые позволяют сохранить сущность человека в любой ситуации и при любом историческом изменении, а также человеческий образ жизни с наибольшей отчетливостью проявляются на фоне именно нечеловеческого, в сопоставлении с ним» [Козьмина 2017, 17]. Принцип дихотомического построения художественного мира справедлив и в отношении романа «Дельта». Главный герой и его спутники читают знаковую книгу природы, когда пробиваются сквозь темные лесные дебри, чтобы войти в святилище богини пауков и изведать тайну их могущества. Люди попытались «взломать» код неписаной книги, воздействуя силой на посланников неведомого божества. Однако ключ к разгадке был найден только после того, как Найл совершил самоотверженный акт доброй воли и отказался от смертоносного оружия с риском для жизни и в знак гуманистического принятия требований природы. Согласование человеческих устремлений с естественным законом морального универсума открыло путь к истине, и тогда символ веры пауков был постигнут героем как сакральный образ жизненной силы, исходящей из течения тотального бытия и дающей начало всему сущему на Земле: «Неимоверная эта сила пыталась излиться через тесную отдушину тела - все равно, что ревущий поток, норовящий вырваться из узкого каньона» [Уилсон 2010 Ь, 232].
Возращение героя из паломничества в Дельту ознаменовалось его нравственной победой над грозным пауком-повелителем и учреждением всенародного государства на основах разумного договора между всеми участниками социума. Однако вдохновляющие символы свободы, равенства и братства оказались слишком далеки от непреложной реальности мирской жизни. Злые вихри непостижимых стихий подорвали веру в светлые идеалы и вселили в умы строителей нового общества затаенный страх перед оживающими призраками прошлого и мистическими фантомами будущего. Как следует из третьей книги эпопеи, романа «Маг», дальнейшая стезя познания героя развертывается в семиотическом поле антиномий разума, порожденных самоочевидными расхождениями между возвышенными романтическими идеалами и объективным порядком вещей в жизненной действительности. Проясняя условные коды романтической символики, Е.Н. Ковтун отмечает ее обоюдные связи с идеальным и реальным мирами: «Романтический идеал, принципиально существующий в ’’иномирье”, нашел свое отражение среди прочих в “другом царстве” -конечно, значительно переосмысленном по сравнению с его фольклорны- ми предшественниками» [Ковтун 2008, 153]. В эпопее К. Уилсона романтическое двоемирие воссоздается в ходе существенного преобразования предшествующей аллегорической картины паучьего царства. Смысловая однозначность аллегорических репрезентаций сменяется полисемией метафорических и символических образов, которые отбрасывают тени неразгаданных тайн на рациональные понятия о человеческом бытии.
На высшую ступень обновленной знаковой системы выдвигается энигматическая фигура мага, олицетворяющего трансцендентное зло по аналогии с отвлеченными образами-идеями эпохи романтизма. Разоблачение подлинной натуры мага и его дискредитация происходят по мере развертывания романтической парадигмы других знаковых образов, находящихся в зоне его директории и символизирующих проявление пороков в различных сферах человеческой жизни - от межличностных и общественных отношений до надстроенных над ними политических и идеологических институтов. При этом изобличение зла и его низвержение с поднебесных высот в житейскую скверну осуществляется с помощью инструментов со-циального-критического анализа, которые прочно вошли в писательскую практику во времена классического реализма.
Семиотическая аналитика интерпретаций реальности в культурном контексте привела Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского к заключению о знаковом механизме ее освоения в среде интерсубъективных коммуникаций: «Любая реальность, вовлеченная в сферу культуры, начинает функционировать как знаковая» [Лотман, Успенский 1993, 343]. Высказанное суждение дает ключ к знаковой трактовке реальности в романе-эпопее К. Уилсона. Герой романа был уже готов поверить в потустороннюю сущность черного мага, но здравый смысл заставил его обратить взор на обыденное существование людей, чтобы найти там объяснение суеверным страхам перед вещами и явлениями, о происхождении которых им ничего неизвестно. Наблюдая поведение сограждан в различных повседневных ситуациях и на разных уровнях социальных отношений, Найл обнаруживает признаки воздействия той страшной демонической силы, которая порождает в одних и тех же людях неуемное стремление повелевать и смиренную покорность повелению. Древнее магическое заклинание «господин - раб» пронизывало силовыми полями весь социум и проявлялось в каждом уголке его пространства как власть инстинкта, плоти, собственности, денег, нормы, в бесчисленном множестве других форм господства и подчинения. В ходе расследования серии жестоких убийств символы власти предстали перед взором Найла в виде каменных идолов, именных медальонов, сплетенных цепей и прочих атрибутов культового служения людей кровожадным идолам. На всех служителях лежали печати незыблемой веры в подлинность тех идей, что были исподволь внушены извне и вдохновляли веривших идти за них на смерть и на убийство. В данном отношении, умножающееся воинство «живых мертвых» представляет собой эпифо-рическую матрицу образов-знаков, олицетворяющих иерархическую пирамиду авторитарной власти и, одновременно, конечный результат самой изощренного способа насилия - идеологического принуждения.
Найл, былой подвижник, а ныне единовластный правитель, оказывается в парадоксальной ситуации «мечтателя на троне», который пытается насаждать идеалы свободы и демократии, не выпуская из своей владетельной руки символического жезла самодержца. Тем не менее, искреннее стремление разрешить коллизии абсолютизма и демократии заставляет его отвлечься от раздумий о кризисном состоянии человеческого сообщества для того, чтобы осмыслить собственное положение в нем. Переход героя от социально-критического анализа к критической самооценке влечет за собой новую реорганизацию знаков художественной условности по модели автономного модернистского романа, где протагонист выступает не только в качестве центра всех репрезентаций, но и субъекта самосознания.
В герменевтической теории П. Рикера самонаблюдение, или рефлексия является актом возвращения человека к самому себе, но в тех границах, где он сохраняет чувство и понимание своей причастности к внешнему целому: «Рефлексия представляет собой акт возвращения к себе, посредством которой субъект заново постигает с интеллектуальной ясностью и моральной ответственностью объединяющий принцип тех операций, в которых он забывает о себе как о субъекте» [Рикер 1995, 77-78]. Философская герменевтика П. Рикера дает ключ прямого доступа к художественному тексту К. Уилсона, поскольку прочтение семиотического кода романа «Маг» также ставится автором в зависимость от принципа имманентной вовлеченности вопрошающего разума в познание сущности, таящейся за знаками явлений. Таким образом, рефлексивная мысль героя направляется на разгадку сущности мага по аналогии с собственной самостью и ведет искателя к познанию внутренних истоков зла сначала в себе, а затем и во внешнем мире человеческой реальности.
Настаивая на возвращении понятия о природе зла из сферы метафизических фантазий в область умопостигаемой эмпирии, К. Уилсон писал: «Авторы сверхъестественной фантастики исходят из одной общей посылки: все они стремятся создать представление о зле как властной силе, существующей вне человека. Это представление подразумевает также дуалистическую природу самой власти» [Wilson 1962, 148]. Знаковый образ мага раскрывается в его романе как средоточие безотчетной воли героя к богоподобной, тотальной власти, когда он видит лик злого демона в глубинах своего «я». Догадку о тщеславной, жестокой и тиранической натуре мага подтверждает Симеон, старый друг и мудрый советник юного правителя: «Есть боги-творцы, создавшие Землю. Потом идут духи природы, которым нет дела ни до чего, кроме деревьев, озер и гор. Наконец, есть чародеи, стоящие на полпути между богами и людьми. Твой маг, сдается мне, относится именно к ним» [Уилсон 2010 с, 212]. Конфликт между гуманистической сущностью и эгоцентрической самостью героя достигает кульминации, когда его путь обрывается перед стеной из несметной рати «живых мертвых», в которых ему предстояло опознать творения злой воли. Но то был уже новый этап опыта и знания, запечатленный автором в романе «Страна призраков» (“Shadowland”, 2003), заключительной книге эпопеи «Мир пауков».
Разрабатывая консолидированный план тетралогии, писатель сообщил своему произведению масштабную эпическую перспективу, которая открыта самые дальние горизонты его философской фантастики. В границах видимого горизонта актуальные проблемы планетарного сообщества освещаются с точки зрения их возможных последствий в будущем, а тотальная картина мира и человека в нем развертывается как изображение объективной реальности с условных позиций пост-современности. Художественная условность футурологического проекта отмечена образами-знаками, которые указывают на вероятностные допущения, но, вместе с тем, и на их неразрывную связь с фактической действительностью. Коннотативные функции знаков обеспечивают взаимодействие идейных и бытийных элементов повествовательного дискурса на всех уровнях его жанровой архитектоники, определяя ценностные ориентиры авторского замысла относительно жизненного содержания произведения и общей системы мировоззренческих координат современного культурного сознания.
В плане онтологическом эпопея «Мир пауков» является свидетельством исчерпанности мировоззрения, в рамках которого природная и социальная действительность могла подвергаться насильственному вторжению в целях ее переустройства на рациональных началах. Отстранение от прогрессистской установки на изменение внешнего мира повлекло за собой смещение гносеологических параметров эпопеи в сторону внутреннего мира человека и, соответственно, - проблемы преобразования субъективного сознания перед лицом объективной реальности. Актуализация данной проблемы раздвигает историко-культурные границы эпического пространства, создавая глубокую хронологическую ретроспективу для освещения эволюции человеческого разума на различных стадиях цивилизации. С точки зрения эстетико-художественной, роман-эпопея К. Уилсона представляет собой положительный результат писательского опыта, основанного на принципе исторической преемственности в литературе и его творческого применения в собственных произведениях.
Список литературы Знаковые коды художественной условности в философской фантастике Колина Уилсона
- Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970.
- Барт Р. Мифологии / пер. с франц. С. Зенкина [3-е изд.]. М., 2014.
- Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. М., 2008.
- Козьмина Е.Ю. Фантастический авантюрно-исторический роман: поэтика жанра. М., 2017.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 326-344.
- Рикер П. Герменевтическая философия // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: московские лекции и интервью. М., 1995. С. 77-90.
- Brown D.J. Outside the Outsider with Colin Wilson: Interview with C. Wilson // Mavericks of the Mind. 2011. Nov. P. 1-5. URL: http://www.mavericksofthemind.com/category/books-by-david-jay-brown/mavericks-of-the-mind/colin-wilson (accessed 28.02.2018).
- Clark S.R.L. Lovecraft and the Search for Meaning. The Proceedings of the First International Colin Wilson Conference (University of Nottingham; July, 2016) / ed. by C. Stanley. Nottingham, 2017. P. 10-45.
- Dossor H.F. Colin Wilson: The Man and His Mind. Shaftesbury; Dorset, 1990.
- Gardner M. Order of Surprise. Oxford, 1984.
- Eco U. The Open Work / transl. by A. Cancogni. Cambridge (Massachusetts), 1989.
- Radford B. Colin Wilson: A case study in Mystery Mongering. CFI, 2013. URL:http://centerforinquiry.net/blogs/entry/colin_wilson_a_case_study_in_mystery_mongering/ (accessed 28.02.2018).
- White J. Mythology in the Modern Novel. A Study of Prefigurative Techniques. Princeton, 2015.
- Wilson C. The Strength to Dream: Literature and the Imagination. Boston, 1962.