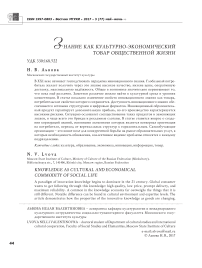Знание как культурно-экономический товар общественной жизни
Автор: Львова Нелли Валентиновна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 3 (77), 2017 года.
Бесплатный доступ
В XXI веке начинает господствовать парадигма инновационного знания. Глобальный потребитель желает получить через это знание высокое качество, низкие цены, оперативную доставку, максимальную надёжность. Общее в экономике значительно перевешивает то, что пока ещё различно. Заметное различие можно найти в культурной среде и уровнях компетенции. В статье показано изменение свойств инновационного знания как товара, потребительское свойство которого сохраняется. Доступность инновационного знания обеспечивается сетевыми структурами и цифровым форматом. Инновационный образовательный продукт гарантирует дополнительную прибыль, но его производство характеризуется высокими рисками. Ситуацию осложняет сосуществование таких продуктов и заменяющих знаков, и чаще всего это бренды и рекламные слоганы. В статье ставится вопрос о создании корпораций знаний, основными элементами которых является всемерная ориентация на потребителя, переход от вертикальных структур к горизонтальным. Самообучающие организации - это новое поле для конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, в которых необходимость обновления, коллективное видение проблемы относятся к каждому подразделению.
Культура, образование, экономика, инновация, информация, товар
Короткий адрес: https://sciup.org/144161085
IDR: 144161085 | УДК: 330:168.522
Текст научной статьи Знание как культурно-экономический товар общественной жизни
Знание – товар, так формируется ключевое обозначение экономики знания. Необходимо различать понятия «информация» и «знание». Под информацией чаще всего понимается совокупность сведений, подлежащих передаче, сохранению и обработке. Поэтому любые знания есть информация, но не всякая информация представляет собой знания. Знания – это система данных, которые усвоены и включены в систему социокультурной коммуникации. В результате в инновационном обществе, благодаря Интернету, стоимость информации постоянно снижается. Стоимость профессиональных знаний, напротив, возрастает. Возникла новая управленческая парадигма: национальные информационные системы могут обладать богатыми информационными ресурсами и одновременно испытывать дефицит ресурса знаний. Ошибочной представляется трактовка знания как высшего уровня информации. Знания не могут быть формой информации. Ими нельзя управлять, подобно обладанию информацией. С позиции Р. И. Акмае-вой, информацию можно продемонстрировать показом, а знание проявляется в социально-культурной деятельности, они представляют собой единство описаний объекта и последовательность, согласованность действий. В инновационных структурах деятельность основана на новых знаниях. Конкуренция между этими структурами осуществляется на основе предложенных знаний. Невещественный «товар – знание» в инновационном обществе быстро дешевеет. Поэтому образование должно давать человеку не только определённый объём знаний, но также формировать способность для приобретения новых знаний. Корпорация знаний станет доминирующей формой инновационной экономики [1, с. 318–320]. В этом состоит одна из основных задач повышения уровня культуры образовательной деятельности.
А. Д. Урсул попытался определить отличие информации как товара от «вещественных» товаров. Эти рассуждения необходимо скорректировать с учётом дистанции времени и логики, восходящей к «Капиталу» К. Маркса. Объём знаний не меняется в результате передачи их от одного к другим субъектам общественного производства. «Классический» товар в процессе обмена отчуждается от товаровладельца. В связи с многократно- стью потребления информация не теряет потребительскую стоимость. В стоимость вновь создаваемой информации стоимость прежнего научного труда не входит. Информация как продукция научного труда всегда оценивается ниже её стоимости. Затраты, необходимые для воспроизводства информации, несравнимы с затратами на её производство. Ещё одной чертой, на которую обращает внимание А. Д. Урсул, является тот факт, что у информации как товара высокая степень неопределённости производства, распределения, обмена и потребления. Отмечается, что есть научная информация, не имеющая товарного характера. Результаты некоторых фундаментальных научных исследований нельзя присвоить. Кроме того, научная информация имеет однозначный статус товара, только если она опредмечивается в материальном производстве [12, с. 404–206]. Однако данная проблема имеет ещё и общественнофункциональный смысл – становление и развитие «общества знания».
В монографии С. Б. Шитова «Высшее техническое образование в процессе становления общества знания» (2010) прослежена взаимосвязь инновационного высшего технического образования и становления общества знания. В этом обществе акцент делается на «научное инновационное знание» [14, с. 3–5]. Предлагается вариант создания и финансирования исследовательских инновационных университетов, а затем, на их базе, университетских комплексов. Такие комплексы являются, по существу, формой транснациональной корпорации университетов. Рассчитать стоимость данного варианта практически невозможно. В инновационном обществе будут создаваться само- обучающиеся организации, необходимые для получения знаний внутри организации. Концепция обучающейся организации была сформулирована П. Сенге в начале 1990-х годов. Обучение в ней должно происходить в группе (команде). Знания свободно циркулируют внутри организации и подлежат стоимостной оценке, выходя за её пределы.
Г. И. Мезенцев обратил внимание на то, что впервые понятие «общество знания» появилось в официальных правительственных документах на Европейском саммите в Лиссабоне (март 2000 года). При этом, начиная с эпохи Возрождения, знание рассматривается как экономическая ценность. В XIX веке знание окончательно приобрело статус товара [5, с. 21]. В таком утверждении, очевидно, сказывается инерция мышления, ибо существует предел применения стоимостных категорий в сфере знания: последнее важно с точки зрения экономического анализа, но не имеет прямого отношения к культурологическому анализу. Инновационный прорыв в сфере образования есть сумма индивидуальных усилий. В связи с этим интерес представляет фигура Н. Д. Кондратьева (1892– 1938). Он известен как экономист, автор работ по методологии социальных наук, философии. Менее изучена его методологическая деятельность. После окончания юридического факультета Петербургского университета Н. Д. Кондратьев был оставлен на кафедре политической экономики и статистики. В 1920 году он основал Конъюнктурный Институт, преподавал в московских вузах. Здесь он обосновал социальную экономику как науку об общественном хозяйстве. Н. Д. Кондратьев критиковал форсированные темпы индустриализации, выступал за введение экономических дисциплин в систему гуманитарного образования. Инновационный характер в дальнейшем носил методологический кружок, созданный студентами и аспирантами Московского государственного университета (1952– 1954). Одним из его организаторов был Г. П. Щедровицкий – автор оригинальной концепции мыследеятельности. Рефлексия нового, по его мнению, формируется за счёт культурного контекста. После его смерти в 1994 году методологически ориентированные группы разделились на отдельные инновационные школы, направления и проекты. Некоторые из них: Независимый Методологический Университет Ю. В. Громыко, Инновационный центр О. С. Анисимова, продолжили разработку идей Н. Д. Кондратьева – Г. П. Щедровицкого. Однако культуротворческая модель инновационной школы будущего разработана В. С. Библером. Субъектом реализации этой модели признаётся человек культурный, сменяющий человека образованного.
Принципиальным для его «Школы диалога культур» являются разновозрастные группы. Новое, по мнению В. С. Библера, есть «точки удивления». В этих точках происходит сопряжение знания и возникает понимание проблемы – общей для разных научных дисциплин. Новое усваивается в сопряжении с загадками слов и чисел. С экономической точки зрения модель В. С. Библера – затратна. Необходимо переподготовить преподавателей и создать учебники нового типа.
Определённый интерес представляет опыт приспособления российских школ к рыночному механизму, а как следствие – к экономическим инновациям в 1990-е годы. Именно в этот период была создана ассоциация «Дети и экономика»: ассоциация детских и юношеских деловых структур. В её рамках проводились выставки, ярмарки по продаже готовой продукции детских кооперативов и производственных объединений. Была поставлена масштабная задача – сформировать у школьников потребность трудится в условиях рынка. Считалось, что новое, осмысленное отношение к труду – это ещё и реакция на экономическую ситуацию. Бесперспективными объявлялись профессии станочников, сборщиков, монтажников. Появилось желание работать в инофирмах, стремление иметь работу, связанную с заграничными командировками. Однако такой мотив, как «иметь высокий заработок», вступил в противоречие с нравственным и духовным развитием обучающихся. Инновациями необоснованно объявлялось всё, что способствовало развитию рыночных отношений. Англо-американская модель образования, взятая за образец, основана на децентрализации. В России же любые изменения в образовании – часть государственной политики.
В странах Запада экономические инновации являются мерой индивидуальной активности, в России она есть проявление разносторонности. Смешивается сама проблема инновационности, так как сквозная категория «успешности» распространяется в западноевропейском и российском общественном сознании по-разному. Так, для западноевропейца понятие «успешная инновация» означает достижение больших результатов в работе, а для русского «успешная инновация» – это саморефлексия в предпринятых усилиях. Другими словами, у россиян данная модель одухотворена, а на Западе – прагматизирована. В эксперименте российские школы не выжили. Буквальное повторение западного подхода, не учитывающего данный аспект, обусловило ослабление социокультурных мотивов: взаимопомощь в труде, интерес к работе, желание принести пользу обществу. Началась деформация смысла героического труда и образа великих строек. Роль прагматизированных экономических инноваций была преувеличена, а роль инноваций в сфере культуры преуменьшена. Знакомство с некоторыми новыми технологиями не гарантировало выпускникам школ того, что они будут востребованы на рынке труда.
К инновационному заимствованию относятся также соглашения о распространении в России программы “Junior Achievement” («Достижение молодых»). Соглашения были подписаны в начале 1990-х годов. К середине 1990-х годов были открыты штаб-квартиры, территориальные и региональные центры. В США – это важные звенья экономического образования: 1–3 классы – знакомство с экономикой; 4–5 классы – вводный курс, 6–8 классы – фундаментальная экономическая программа, 9–11 классы – практическая экономика. В России это вылилось в создание профильных экономических классов (10–11 классы) экономических лицеев. Экономический компонент образования был определён как региональный. Появилась возможность изучения экономики. Однако оказалось, что в новых государственных образовательных учреждениях возможности и организационные формы для экономического образования были сокращены. Одновременно ликвидировались экономические курсы в средних специальных учебных заведениях. Это прежде всего коснулось отрасли культуры и искусств.
Всё это не выдержало испытания временем и было утрачено. Однако идеи соединения культуры и образования в России нашли своё воплощение в ряде вузов России. Наследие советских традиций и постсоветскую реальность объединяет проект гуманистической инновационной школы при Российском государственном университете физической культуры спорта, молодёжи и туризма (руководитель В. И. Столяров). Название «СПАРТ» (“SPART”) представляет собой аббревиатуру, образованную сокращением трёх английских слов: Spirituality – духовность, Sport – спорт, Art – искусство [8, с. 119–122].
Футуристический аспект такого инновационного проекта анализирует А. И. Уваров. Он полагает, что начало формирования «глобальной инновационной рациональности» началось со второй половины ХХ века. Её характеризуют: нелинейность, открытость, творческий подход и решение сложных задач. Инновационная рациональность, по его мнению, парадоксально сочетает в себе западную рациональность и восточный мистический стиль мышления, допускающий использование иррациональных методов. Инновацию определяет Уваров в качестве функции планетарного разума. Инновационное общество будущего отождествляется с обществом мудрости. Институционно оно будет представлять собой планетарную Федерацию. В будущем возникает необходимость создания геоакадемии платоновского типа для России. Уваров называет её «инновационной академией» [11, с. 95, 99–100].
Сходную позицию занимает Т. Н. Су-минова. Она рассматривает новое как посыл гармонии в ноосфере. Здесь вводится понятие «инновационный креативный процесс», происходит сочетание эмоций и смысловых импульсов, а гармония есть основа и идеал культурной инновации [9, с. 122–125].
Вся эта проектная работа, к сожалению, не нашла пока своего продолжения в сфере отечественного образования. Заметим, что традиционное образование необходимо не только наполнить инновационным содержанием, но и экономически сбалансировать, синхронизировать его развитие с корпорациями знаний. Важной задачей корпораций знаний является трансформация знаний в товар и повышение спроса. Поэтому эффективность корпорации знания зависит от консультаций и программного обеспечения – как товаров, содержащих знание. В отличие от матричных (сетевых) организаций, гипертекстовые организации используют иерархию, в которой знание функционирует одновременно на нескольких уровнях. В самообслуживающихся организациях увеличилась скорость трансформации и преобразования знаний. Этот процесс начинается со свободы распределения знаний внутри организации [1, с. 314, 324–325].
Новая ситуация с корпоративными знаниями в общемировом масштабе обеспечивает их «ответное» движение в сторону инновационного образования. Индустриальные страны утратили монополию на знания. Иерархия вертикальных каналов распространения информации становится гибче или отмирает, потому что замедляется горизонтальными каналами распространения информации.
Утечка информации влияет на формирование потребительского спроса, одновременно усиливая ситуацию неопределённости. Такова социокультурная практика, которая находит сегодня интернациональное воплощение.
Западноевропейский менеджмент знаний оформился в начале 1990-х годов. Ключевые понятия здесь: работник знания (Knowledge worker) и «скрытие знания». Теорию и практику менеджмента знаний развили П. Друкер, Х. Такеучи, П. Сенге. Их работы пока ещё широко не представлены в России.
Методы управления знаниями в России первоначально носили имитационный характер. Так, «Газпром» в этот период участвовал в создании Института «Энергетическая дельта» (EDI) для обмена инновационными знаниями в области газовой промышленности. Руководство «Северстали» начало создавать Корпоративную базу знаний “Krowledge Base” [2, с. 65–67].
На западе «общество будущего – экономика будущего – знание будущего» образуют единую структуру. Вместе с тем отметим и другое – торговля будущим – одна из тупиковых линий в развитии западной цивилизации. Отождествление будущего с новым должно повысить спрос и на то, и на другое. Однако этого не происходит. Спрос на будущее остаётся неустойчивым. В современной России интерес к будущему вообще не имеет доминирующего стоимостного выражения, а проявляется желание оценить прошлое или новое, а также прошлое для будущего. В будущем «обществе знания» человек возьмёт на себя ответственность за воплощение нового. В образовательной парадигме знание о новом сменится ин- дивидуальным его пониманием, а не только как акт купли-продажи. «Общество знания» – это важнейший этап развития инновационной экономики. Хотя повышение стоимости знания и «обесценивание» информации не может происходить бесконечно. В отношении фундаментальных знаний сделать денежно-стоимост- ные расчёты невозможно. Именно здесь проходят границы между культурой и экономикой. Тенденция ХХI века, выражающая сущность инновационной экономики, есть сближение цены знания и знания цены. В этом состоит ключевой экономический смысл образовательной культуры.
Список литературы Знание как культурно-экономический товар общественной жизни
- Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 347 с.
- Бережанский П.В., Бережанская Ю.С., Гайнутдинова Л.И. История развития учения об управлении знаниями // История и философия науки: сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции (Ульяновск, 4-5 мая 2012 г.) / Федеральное агентство по образованию, Ульяновский гос. ун-т; [ред.: Н.Г. Баранец]. Ульяновск: Качалин Александр Васильевич, 2012. С. 59-68.
- Берникова О.В. Дополнительное образование как условие профессионального самоопределения и формирования социально полноценной личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 176-182.
- Лобанов И.В. Образование в сфере культуры в контексте межкультурного диалога // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (65). С. 11-20.
- Мезенцев Г.Н. Идея общества знания // Вестник Российского философского общества. 2012. № 2 (62). С. 20-22.