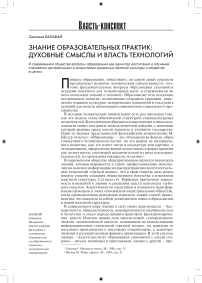Знание образовательных практик: духовные смыслы и власть технологий
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170164355
IDR: 170164355
Текст статьи Знание образовательных практик: духовные смыслы и власть технологий
зНАНИЕ ОбРАзОВАТЕлЬНыХ пРАКТИК: ДУХОВНыЕ СмыСлы И ВлАСТЬ ТЕХНОлОГИЙ
В современном обществе вопросы образования как единство воспитания и обучения становятся центральными в осмыслении кризисных явлений культуры и общества в целом.
п роцесс образования, объективно, по самой своей сущности предполагает развитие человеческой субъективности, поэтому фундаментальные вопросы образования становятся ведущим понятием для гуманитарных наук1 и стрежневыми во всем комплексе знаний о человеке. Образование есть подлинно историческое понятие, позволяющее сохранить традиции, определить новации культурно-исторических изменений и послужить основой для модели организации современного социального пространства.
В истории человеческой цивилизации есть ряд примеров того, как эта модель стала объективной структурой социокультурных целостностей. Классическим образцом создания нового типа социальности может послужить модель античной пайдейи, с помощью которой древние греки хотели укрепить и улучшить государство. Один из видных представителей философской антропологии М. Шелер отмечал: «Образование – это отчеканенная форма, образ совокупного человеческого бытия, но это форма не материального вещества, как это имеет место в скульптуре или картине, а отчеканивание, оформление живой целостности в форме времени как целостности, состоящей исключительно из ряда последовательностей, из протекания процессов, из актов»2.
В современном обществе общепризнанным является новая роль знаний, которая выражается в утрате профессионалами монополии на знания и информацию и в распространении интеллектуальных технологий «третьей волны», что в свою очередь дало жизнь новому способу создания общественного богатства и изменение властной структуры. Согласно О. Тоффлеру причинная зависимость изменений в знании и смещения власти наполнена глубоким смыслом. А-налогичная по масштабам и мощности трансформация проходила в эпоху становления индустриального общества, когда промышленная революция породила новый способ производства, что повлекло за собой установление нового образа жизни и новой властной структуры.
БАЛАБАй Светлана Валерьевна – доцент кафедры философии и политологии Саратовского государственного социально экономического университета
В современном мире знания в силу своих преимуществ – бесконечности, общедоступности, демократичности подчинили силу и богатство и стали определяющим фактором функционирования власти. Именно знания дали начало новой, «суперсимволической» экономической системе, основанной на использовании информационных технологий «третьей волны», на переходе от массового производства к массовому потреблению, к децентрализации и разукрупненным формам организации. В этой системе знания – власти институт образования становится с одной стороны – весьма значимым и престижным, однако с другой – пре- вращается в структуру по производству рецептурнономиналистского характера знания, которого оказывается вполне достаточно для социально весьма успешного функционирования личности.
Можно утверждать, что в сфере образования сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны – знание образовательных практик изменяется чрезвычайно быстро и динамично, а с другой – для его транслирования необходимо, чтобы оно было неизменным. Действительно, нельзя передавать знание, если оно неустойчиво, если нет уверенности, что это знание «останется» навсегда. Такая ситуация приводит к определенным трудностям в реформировании образовании, а именно, к неоднозначности и противоречивости социальных форм обучения и передачи ценностно-значимой информации, что в свою очередь является проявлением кризиса исторической традиции продуктивного общения поколений. Именно поэтому вопрос «Как учить?» становится вторичным по сравнению с вопросом «Ч-ему учить?».
Образовательное знание отличается от знания, приобретаемое индивидом вне институтов образования. Образовательное знание – это «сущностное знание, которое стало формой и правилом схватывания, «категорией» всех случайных фактов будущего опыта, имеющих ту же сущность». В этой связи становится очевидно, что образование – это не «учебная подготовка к чему-то, к профессии, специальности, ко всякого рода производительности и уж тем более образование существует не ради такой учебной подготовки, образование является категорией бытия и, следовательно, «обязанностью человека перед самим собой».
Г. Гегель отмечал, что человек обязан «поднять свое отдельное существо до своей всеобщей природы – образовывать себя».
Нельзя согласиться с мнением В. А-. Лекторского, считающего, что современный идеал образования, выражаемый формулой «человек знающий», все более ставится под сомнение. Ведь сложные современные проблемы требуют нестандартных решений и методов, следовательно, образование должно стать обучением как способом творческого и критического мышления, так и средством воспита- ния нравственных гражданских добродетелей. Мнение о том, что обучение инструментальному мышлению, обслуживающего сферу естественных наук, не ведет к нравственному развитию и носит инструментальный характер, является верным. Вместе с тем такое суждение лишь фиксирует сложившуюся ситуацию, и не способствует разработке конструктивных положений в сфере образования.
Замечу, знание образовательных практик всегда предполагает имманентно существующую цель. Именно цель образования выполняет системообразующую функцию в педагогической деятельности. От выбора цели в наибольшей степени зависит выбор содержания, методов и средств обучения. Особенность и значимость образования древних греков заключалась в том, что не «следует руководствоваться просто «знанием» (или «незнанием»), но что само это знание должно разворачиваться, исходя из того, ради чего оно достигается. Несоответствие результатов современного образования поставленным и ставящимся целям, выдвинутым и выдвигающимся ценностям культуры есть первоисточник кризиса системы образования.
Р-азвитие образовательных практик можно рассматривать как акцентуацию того или иного уровня образовательного знания: либо во главу ставится обучение всевозможным умениям и навыкам, либо воспитание «гуманного» человека. Но образование в целом нельзя свести к одной из указанных составляющих и именно их единство образует целостный феномен, благодаря которому технологии передачи и усвоения знания включают также специфически человеческий способ его целостного преобразования на пути «возрастания к гуманности». В этой связи весьма актуальна и значима древнегреческая пайдейя, выражавшая именно единство образования и воспитания посредством овладения культурой, универсальным знанием и добродетелями. Пайдейя есть не просто преодоление собственной природы, борьба с собственными страстями и естественными проявлениями, она взаимосвязана, во-первых, с наукой как стремлением к безусловному знанию и, во-вторых, предполагает нравственную сторону достижения знаний. Суждения об образовании как истинном познании содержат в себе рациональные и ценностные аспекты и делают возможной теорию образования. По Сократу, добродетель есть знание, и именно в том смысл, что благодаря этому знанию человек сознает моральные нормы и законы как наилучшее средство для развития улучшения своей жизни.
Платон рассматривает воспитание в государственном порядке, в смысле изучения законов и подчинения всей человеческой жизни этим законам.
Согласно Жаку Ле Гоффу в средневековом обществе устанавливается новая система доминирующих ценностей земного могущества, покоящаяся на трех опорах – Священство – Царство – Знание. В ХII–ХIII веках возникает перелом в отношении к знанию и образованию, заключающийся в том, что человек как бы вторгается в прерогативы Б-ога. Новые мыслители не движутся уже к Б-огу, а исходят из Б-ога, заранее согласовывают с ним свое рассуждение. Появление университетов – академических структур, сильно отличающихся и от античных, и от средневековых школ, структур, чей внутренний устав касается не только отношений между учеником и учителем, но и между мыслителем и самой мыслью, – также во многом способствовало упадку старой традиции и рождению новой.
Таким образом, в эпоху античности и Средневековья системы ценностей образовательных практик, связанных с репрезентацией знания, существенно различаются. В средние века знание образовательных практик начинает выполнять функцию скорее «техне», чем «арете» и «эпистеме», что в конечном итоге ведет к формированию рецептурно номиналистического образования.
Р-адикальная трансформация знания в структуре образования произошла в эпоху Возрождения и связана с новым идеалом образования как формирование и развитие личности в целостности ее способностей. Для образовательных практик эпохи Возрождения оказывается значимым «культ естественного, непосредственного знания, причем знания, наполненного прежде всего этическим смыслом». Гуманисты пытались возродить идеал универсально-энциклопедического образования, идею круга – энциклопедии как связи различных наук между собой. Однако этот способ организации не получил распростране- ния в силу многоликости и бурного роста знания, а также непригодности прежних способов его упорядочения.
Новое время изменяет знание образовательных практик, коррелируя их с критериями научности. Р-азрабатываемый в этот период экспериментальный метод, все более распространяющийся в науке и производстве, начинает активно применяться в образовании. Так, Р-. Декарт, формулируя идеал образования Нового времени, отмечает необходимость обучения с помощью определенного метода, под которым понимает достоверные и легкие правила, позволяющие человеку никогда не применять «ничего ложного за истинное и не затрагивать напрасно никакого усилия ума, но постоянно шаг за шагом приумножать знания». Классическая рациональность предопределяет методическую направленность образования, способствуя развитию интеллектуального аналитического знания, а также определенных практических умений и навыков.
Школа нового времени выстраивается, ориентируясь на науку и производство, но даже неизбежное в контексте развития науки «приращение» знаний носит линейно-восхожденческий характер – является механистическим накоплением информации1. Соответственно строению науки нового времени учебные предметы в школе расположены мозаично, энциклопедически, отдельно друг от друга, без переходов и смысловых мостиков. Поскольку существуют отдельные, не связанные между собой дисциплины, то и в умах детей имеются отдельные отсеки, участки для математики, физики, биологии и других областей знания.
Итак, с развитием науки образовательное знание трансформируется, становится по своему назначению технологическим, информационно насыщенным, что в свою очередь закономерно приводит к формированию технологической модели системы образования.
Известный исследователь М. Вар-тофский считает, что существует два противоположных способа человеческой деятельности, которые условно можно назвать искусство и технология, модели которых распространяются и на образо- вание1. По мысли Вартофского, противопоставление данных моделей образования может служить удобным объяснением существующего кризиса образования.
Согласно этому мифу технологическая модель системы образования предназначена для производства винтиков для машины. Эти «винтики» представляют собой продукты, необходимые для поддержания функционирования системы. Следовательно, школы – не что иное, как фабрики или сборочные линии для такой социальной продукции, и их цели определяются не потребностями детей как человеческих существ в воспитании и развитии, а потребностями системы в специалистах и функ-ционерах2. Такой взгляд достаточно актуален и всегда может быть дополнен обыденными представлениями и разнообразным опытом и примерами на различных уровнях образования. При этом требования овладеть навыками и мастерством, усвоить исторические и культурные достижения человечества объявляются прозаическими, навязы- ваемыми отсталым традиционализмом3. Кроме того, постиндустриальные технологии, особенно в сфере компьютеров и телекоммуникации, переносят акцент с внутренней присущей ценности знания на достижение результата.
Однако в процессе обучения невозможно избежать «технологичности» образовательных практик, транслирующих навыки, умения и в целом культурноисторический опыт. Б-езусловно, новые технологии оказывают эффект на две функции знания – исследования, то есть получения нового знания и его передачи, то есть обучения. Современная образовательная концепция предполагает дополнительность и взаимосвязь ценностных и технологических компонентов образовательного знания, тем самым способствуя превращению индивида из потребителя знания в человека, умеющего применить их и способного к постижению высших ценностей и смыслов. Такая установка, думается, будет способствовать распространению человека-мастера, человека-профессионала, обретающего в процессе своей деятельности способность видеть окружающий мир во всей сложности и тонкости взаимозависимости.