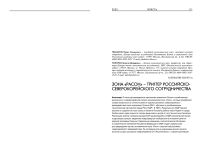Зона «Расон» - триггер российско-северокорейского сотрудничества
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются перспективы вовлечения России в хозяйственную деятельность в северокорейской торгово-экономической зоне «Расой», которые приобретают особую актуальность в контексте резкого подъема российско-северокорейского взаимодействия после подписания 19 июня 2024 г. «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР». В 1993 г. Правительство КНДР приняло решение о создании на стыке границ с Китаем и Россией в районах порта Раджин и города Сонбон своего рода открытого торгово-финансового центра по типу Гонконга или Сингапура. Реализации проекта помешали распад СССР, разразившийся в КНДР экономический кризис и удушающие санкции, введенные международным сообществом в отношении ракетно- ядерной программы Пхеньяна. Радикальное изменение в геополитической обстановке и стремительное сближение Российской Федерации и КНДР создает предпосылки для превращения торгово-экономической зоны «Расой» в важный хаб российско- северокорейского взаимодействия. Не последнюю роль в реанимации данного проекта могло бы сыграть российско-северокорейское СП «РасонКонТранс», ставшее крупнейшей инвестицией в экономику КНДР за все годы после разрешения в стране совместного предпринимательства. При этом предполагается формирование в дельте реки Туманная новой региональной подсистемы международного разделения труда и цепочек добавленной стоимости. Проект мог бы реализовываться как в рамках специальной торгово-экономической зоны «Расой», так и в рамках активно обсуждаемого проекта создания в южной части Приморского края на территории, граничащей с КНДР и КНР, беспошлинной и безвизовой зоны с льготным налогообложением. Начало строительства в 2025 г. автомобильного моста через реку Туманная, призванного соединить российское Приморье с северокорейской торгово-экономической зоной «Расой», может стать генератором практического наполнения экономической составляющей «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР». Создание на базе Расона российско-северокорейского кластера сотрудничества может иметь и «выход наружу». На базе этой «связки» может приобрести новое дыхание известная инициатива по созданию международного хаба в дельте реки Туманная с долгосрочными геополитическими последствиями при ведущей роли России.
Российско-северокорейское сотрудничество, река Туманная, зона «Расой», геоэкономика Северо-Восточной Азии, инфраструктурные проекты
Короткий адрес: https://sciup.org/170210963
IDR: 170210963 | DOI: 10.56700/p7088-3533-8671-g
Текст научной статьи Зона «Расон» - триггер российско-северокорейского сотрудничества
Н овая геополитическая реальность, острая конфронтация с Западом по-новому определили круг общения России. В том числе в «поясе соседства», например, у ее «восточного порога» — на Корейском полуострове. Если раньше для сохранения баланса сил в регионе, исключения конфликта считалось достаточным сохранять неконфронтационные отношение с обеими Кореями и стремиться, чтобы наш голос был слышен в международном обсуждении корейской проблемы [Торкунов, Толорая, Дьячков 2023: 312—313], то сейчас понадобилась решительность и определенность. КНДР, в том числе благодаря подписанию «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР» 19 июня 2024 г. в Пхеньяне во время визита Президента России В. Путина, стала нашим, пожалуй, единственным военным союзником и идейно близким стратегическим партнером. Сейчас настало время инициатив и инноваций [Толорая, Чернецкий 2024: 20—43], и в складывающихся условиях России и КНДР необходимо предпринимать конкретные шаги для наполнения этого договора содержанием не только в военно-политической области, которая привлекла наибольшее внимание в мире245, но и в экономической сфере.
Основное место в договоре занимают именно статьи «рамочного» характера, определяющие параметры практического взаимодействия во всех областях жизни. Стороны подтвердили, что «активно поощряют совместные исследования в области науки и технологий, включая такие сферы, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии и иные»246. Важное значение в этом отношении имело подписание во время саммита соглашения о строительстве автомобильного моста между двумя странами — проекта, не имеющего смысла без значительного роста товарообмена и пассажиропотока. Одним из таких инновационных направлений может стать активное вовлечение России в хозяйственную деятельность в северокорейской торгово-экономической зоне «Расой», с которой как раз и призван соединить российское Приморье автомобильный мост через реку Туманная.
В 1993 г. Президиум Верховного Народного Собрания КНДР принял Закон о торгово-экономической зоне «Расой», образованной на стыке границ с Китаем и Россией в районах порта Раджин и города Сонбон. Этот закон был во многом позаимствован из опыта китайских законодателей после очередного визита Президента КНДР Ким Ир Сена в КНР в 1991 г. Данный закон предоставлял даже больше льгот, чем его китайские и вьетнамские аналоги. Преференции для иностранных инвесторов распространялись в нем в том числе и на зарубежных корейцев. Учитывались в нем и наработки в области совместного предпринимательства, попытки продвигать которое предпринимались КНДР начиная с середины 1980-х гг., в том числе в режиме консультаций с российскими специалистами.
Авторам проекта виделось создание в зоне «Расой» открытого торгово-финансового центра по типу Гонконга или Сингапура. Однако задумкам превратить её в процветающий край помешали распад СССР, и укоренение в западном подходе расчетов на скорый коллапс КНДР вслед за другими социалистическими странами, после чего территория попала бы под контроль Южной Кореи, с которой и надо было бы решать вопросы. Не последнюю роль в провалах задуманных планов сыграл и разразившийся в КНДР экономический кризис («Трудный поход»), связанный с прекращением советской помощи и ростом давления на КНДР по поводу ее ядерной программы, предпринятой для самозащиты в условиях утраты союзников.
К 1999 г. заявленные инвестиции в зону оценивались в 150 млн долл. США, однако реальные капиталовложения составили всего 34 млн долл. [Noland 2000: 137]. Крупнейшими инвесторами выступали таиландская «Loxley Pacific Company», проложившая в зону оптико-волоконный кабель для обеспечения связи, и гонконгская «Emperor Property Development Group», открывшая здесь летом 1999 г. отель с казино. В сентябре 1999 г. рыночная деятельность в зоне «Расой» была ограничена, и все функции по её управлению были переданы центральным органам эконмического руководства в Пхеньяне.
Затянувшаяся экономическая стагнация и несмелые попытки реформирования в первой половине 2000-х гг. предопределили решение северо-корейского руководства взять курс на возрождение торгово-экономической зоны «Расой». В 2009 г. правительство КНДР сформировало Комитет по совместным предприятиям и инвестициям — довольно революционный для закрытой страны орган, которому было поручено привлекать и регулировать иностранные инвестиции в страну. В следующем году произошли законодательные изменения, которые предоставили больше местной автономии торгово-экономической зоне «Расой». Формально она контролировалась из Пхеньяна Комитетом совместных предприятий и инвестиций, но реально находилась в ведении Бюро экономического сотрудничества, полуавтономной организации при Городском народном комитете Расой.
Этот шаг совпал с одобрением Пекином в 2009 г. плана регионального развития под названием «Чанцзиту», аббревиатуры Чанчунь-Цзилинь-Ту-мень, — амбициозной программы развития северо-восточного региона Китая, который отставал от более южных прибрежных провинций Китая [Abrahamian 2012: 1—7]. Инвестиции центрального правительства в инфраструктуру провинции Цзилинь способствовали развитию соседнего Расона (в основном за счет китайских и российских капиталовложений). Шоссе, связывающее Раджин и Сонбон с пограничным переходом с Китаем в Вонджоне, было заасфальтировано (30 км), а портовые мощности Расона сданы в аренду китайским компаниям (причал 1 и 2). Основанное в 2008 г. российско-северокорейское совместное предприятие «Расон-КонТранс» взяло себе причал З247. Это было сделано в рамках «пилотного» проекта с прицелом на восстановление Транскорейской железной дороги, выходящей на Транссиб, в интересах создания транзитного коридора до Европы. То есть не на словах, а на деле стал реализовываться курс на восстановление, после паузы 1990-х гг., отношений с КНДР, определенный по итогам инициативы прорывного визита в Пхеньян в июле 2000 г. нового российского Президента В.В. Путина, всего через несколько недель после инаугурации. Северо-восточный регион КНДР стал важнейшей сферой практических действий в этом направлении. В августе 2001 г. В.В. Путин и Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир зафиксировали в Московской декларации договоренность о создании нового железнодорожного коридора, соединяющего Корейский полуостров с Россией и странами Европы248. Тогда же было подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством путей сообщения России и Министер- ством железных дорог КНДР о реконструкции северокорейской части Транскорейской магистрали — так называемого «восточного участка», протянувшегося вдоль побережья Восточного (Японского) моря и стыкующегося с российской сетью железных дорог через пограничный переход Туманган (КНДР) — Хасан (Россия).
Данный проект приобрел актуальность после того, как в июне 2000 г. на саммите в Пхеньяне руководители КНДР и Республики Корея приняли решение о восстановлении железнодорожного сообщения между двумя частями Корейского полуострова. Проекты трёхстороннего сотрудничества стали магистральной инновационной линией России в делах Корейского полуострова. Мы, однако, не предвидели, что это вызовет столь резкое противодействие Вашингтона, выразившееся в прямом давлении на либеральную администрацию Ким Дэ Чжуна. Да и в Пекине, судя по всему, особого восторга по поводу активности России в КНДР не проявляли [Бурлаков 2013: 53—61].
В качестве «пилотного» проекта на фоне растущей неопределённости с большими планами в ходе трехсторонней встречи глав железнодорожных администраций Российской Федерации, КНДР и Республики Корея в марте 2006 г. во Владивостоке стороны согласились начать восстановление Транскорейской железной дороги с реконструкции 54-ки-лометрового участка Хасан — Раджин и строительства в порту Раджин контейнерного терминала. Работы финансировались ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»). Реконструкция предусматривала укладку совмещенной железнодорожной колеи (1520 мм и 1435 мм). Предполагалось, что пропускная способность железной дороги после реконструкции даст возможность обеспечить грузооборот до 200 тыс. TEU (контейнеров в 6-метровом эквиваленте) в год249.
В мае 2007 г. Президент России В.В. Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Иру письменное послание, в котором было предложено несколько вариантов практических мероприятий по продвижению проекта. В апреле 2008 г. для реализации проекта было учреждено совместное предприятие «РасонКонТранс», регистрационный капитал которого составил 28 млн евро (ОАО «Торговый дом РЖД» — 70%, порт Раджин — 30%). В рамках своей доли ОАО «Торговый дом РЖД» внесло в регистрационный капитал СП средства в размере 19,6 млн евро, привлеченные под поручительство ОАО «РЖД». Доля порта Раджин в регистрационном капитале включала права на использование 20,1 га территории порта. Инфраструктура участка железной дороги и причала в порту Раджин были переданы СП «РасонКонТранс» в аренду на 49 лет. Финансирование работ осуществлялось из уставного капитала СП «РасонКонТранс», а также из заемных средств, полученных от ОАО «Российские железные дороги». Совокупные затраты на проект изначально оценивались в 170 млн евро и полностью были покрыты российской стороной, Общая сумма расходов на его реализацию по состоянию на 2017 г. превысила 216 млн евро., что стало крупнейшей инвестицией в северокорейскую экономику за все годы после разрешения в КНДР совместного предпринимательства.
Официальная церемония запуска проекта состоялась в октябре 2008 г. После проведения инженерных изысканий и проектной стадии работ в 2009 г. началась реконструкция железной дороги и укладка рельсов совмещенной колеи на участке Хасан — Раджин с привлечением российских железнодорожных строительных организаций. В ходе строительных работ было восстановлено 18 мостов, 12 водопропускных труб и 3 тоннеля протяженностью свыше 4,5 километра, а также установлено современное оборудование централизации, блокировки, сигнализации и связи. В октябре 2011 г. по реконструируемому 54-километровому участку была организована демонстрационная перевозка состава с контейнерами.
Однако вновь вмешалась политика. Настрой консервативного правительства Республики Корея во главе с Президентом Пак Кын Хе (впоследствии подвергнутой импичменту и посаженной в тюрьму) на «скорый коллапс» КНДР, кончина в декабре 2011 г. Ким Чен Ира и неясность перспектив стабильности власти его наследника Ким Чен Ына привели к тому, что Сеул дал задний ход. В конце 2011 г. северокорейские партнеры были проинформированы о том, что в связи с выходом из проекта южнокорейских партнеров для получения дополнительного банковского финансирования и обеспечения возврата инвестиций в связи с отсутствием подтвержденной контейнерной базы необходима переработка бизнес-плана проекта, которая бы предусматривала временное изменение специализации третьего причала в Раджине с контейнерного на навалочный (для перевозки угля). Правительство КНДР первоначально отклонило данное предложение, ссылаясь на природоохранные ограничения и существующие межгосударственные договоренности между КНДР и КНР, которые предусматривали приостановку перевалки угля китайскими компаниями через первый причал порта Раджин250.
После официального обращения Председателя Правительства России Д.А. Медведева в сентябре 2012 г. российской стороной был получен официальный ответ от премьера КНДР Цой Ён Рима, в котором давалось принципиальное согласие на «временное использование третьего причала для обработки различных не контейнерных грузов после завершения ОАО «РЖД» его реконструкции и подготовки для приема контейнерных грузов, предусмотренных ранее заключенным договором». В феврале 2013 г. Комитет КНДР по совместным инвестициям подтвердил «со- гласие на временную переработку угля на третьем причале при условии принятия ОАО «РЖД» надлежащих мер по защите окружающей среды».
В октябре 2013 г. СП «РасонКонТранс» закупило в Финляндии и доставило в порт Раджин 7 универсальных полноповоротных перегрузочных машин «Мантсинен», а также 4 универсальных портальных крана «Витязь 40—80» грузоподъемностью 80 тонн, изготовленных российской компанией ЗАО «СММ». Краны были отправлены в собранном виде с причала Усть-Лужского контейнерного терминала на специализированном судне по Северному морскому пути. В 2014 г. работы по созданию в порту Раджин интермодального перегрузочного терминала мощностью 4 млн тонн грузов в год были полностью завершены, и с января 2015 г. началось коммерческое использование этого транспортного коридора для транзитные перевозки угля и других сыпучих грузов из России в южные провинции Китая. Объем перевалки угля «РасонКонТранс» в 2015 г. составил 1,2 млн т, в 2016 г. — 1,7 млн т. К 2017 г. предполагалось добиться окупаемости текущих расходов компании за счет увеличения объемов перегрузки угля до 3,6 млн т.
Однако «мировое сообщество» вновь «дернуло стоп-кран». Беспрецедентно жесткие санкции по линии СБ ООН, содержащиеся в 5 резолюциях СБ ООН 2016—2017 гг., запретили практически все экспортные операции КНДР, существенно ограничили импорт, блокировали все отношения КНДР с мировой финансовой системой, запретили с ней совместные предприятия251. Правда, усилиями российской дипломатии, проект «РасонКонТранса» удалось вывести из-под санкций ООН, и он осуществлял операции по транзиту угля по уведомлениям в адрес Санкционного комитета СБ ООН № 1718. Однако и там американцы и их союзники ставили препоны работе проекта: тормозили его финансовые операции по капитализации, попытки реэкспортировать уголь из третьих стран, не говоря уже о более широких планах модернизации.
Более того, «вторичные» односторонние санкции США и их союзников создали ситуацию, когда КНДР стала крайне «токсичной» даже для разрешённого бизнеса — например, посетившие ее порты суда перестали принимать другие страны252. Также обнаружилось, что в правлениях крупнейших российских грузоотправителей угля заседают западные директора, которые стали блокировать коммерчески выгодные транзитные операции.
В контексте усиливающегося санкционного давления на КНДР со стороны западного сообщества условия для инвестиционной деятельности с участием иностранного капитала во втором десятилетии XXI века фактически были сведены на нет. Несмотря на это, надо отдать должное политической воле Ким Чен Ына, который на ранних этапах руководства страной предпринимал попытки по привлечению иностранного капитала, в том числе за счет создания специальных экономических зон. В 2013 г. Президиум Верховного Народного собрания КНДР принял Закон о развитии специальных экономических зон, который предусматривал создание ряда специализированных территорий центрального и провинциального подчинения в области промышленности, сельского хозяйства, туризма, экспортного производства на давальческом сырье и передовых научно-технических разработок. Данные зоны за счет привлечения внешних капиталовложений должны были стать генераторами экономического роста регионов и страны в целом.
Закон предусматривал преференции для потенциальных иностранных инвесторов, в частности, сдачу в аренду земельных участков сроком на 50 лет с правом продления, возможность сдачи участков и недвижимости в субаренду, перепродажи права пользования землей, а также прав собственности на имущество. Расчеты за товары и услуги предполагалось вести по мировым рыночным ценам в любой валюте, включая северокорейские воны. Налог на прибыль предприятий в учрежденных зонах был снижен до 14%, а для поощряемых отраслей — до 10%, в то время как на остальной территории КНДР он составлял 25%253. В 2013—2014 гг. на территории страны были учреждены 19 таких зон (тринадцать в ноябре 2013 г. и еще шесть в июле 2014 г.), однако поиски зарубежных партнеров, готовых вложиться в развитие необходимой инфраструктуры, результатов не принесли.
В 2015 г. Правительство КНДР приняло решение распространить преференции новых зон на торгово-экономическую зону «Расой». В обновленном проекте планировалось строительство технопарков, в которых предполагалось разместить предприятия по производству оборудования для легкой промышленности, стройматериалов и мебели, стальных конструкций, компьютеров, телевизоров и бытовой электроники. Одновременно предусматривалась организация в зоне выпуска органически чистой сельскохозяйственной продукции и её переработка на местных предприятиях пищевой промышленности. Всего на создание «северокорейского Гонконга» власти страны намеривались привлечь инвестиции на общую сумму 15 млрд долл. США (в производственный сектор — 9 млрд долл, и в туристическую отрасль — 6 млрд долл.)254. Понятно, что в связи с ростом конфронтации КНДР с США, где к власти в 2016 г. при- шел Д. Трамп, пригрозивший поначалу КНДР «огнем и яростью» за ее ракетно-ядерную программу, этим масштабным планам не суждено было перейти в практическую плоскость.
Санкционные ограничения в отношении КНДР пагубно сказались и на работе в торгово-экономической зоне «Расой» единственного российско-северокорейского совместного предприятия «РасонКонТранс». Сохранение международного санкционного режима в отношении КНДР, в частности, ограничения на отгрузку угля и кокса географически самым близким потребителям в Южной Корее и Японии, оказало негативное влияние на окупаемость данного проекта, конкурентным преимуществом которого считалась возможность круглогодичной эксплуатации перегрузочных мощностей порта. В связи с пандемией КОВИД-19 в начале 2020 г. КНДР была полностью закрыта от внешних контактов, работа компании велась в режиме поддержания инфраструктуры. Лишь после пятилетнего перерыва транзитная перевалка угля СП «РасонКонТранс» в южные провинции Китая была возобновлена в мае 2024 г.255.
Следует вспомнить, что еще в 2015 г. между правительствами Российской Федерации и КНДР были подписаны соглашения о международном автомобильном сообщении (апрель)256 и сотрудничестве в области электроэнергетики (декабрь)257, которые расширили возможности двустороннего взаимодействия в таких приоритетных для торгово-экономической зоны «Расой» сферах, как транспортная и энергетическая инфраструктура. Для практической реализации достигнутых договоренностей были созданы совместные Рабочие группы по вопросам организации строительства временного понтонного автомобильного моста через реку Туманная и по изучению вопроса реализации поставок электроэнергии на Корейский полуостров. Корпорация «РАО Энергетические системы Востока» разработало ТЭО строительства электроэнергетических объектов для организации поставок электричества из Приморского края в торгово-экономическую зону «Расой». Однако жесткие санкции международного сообщества в 2016—2017 гг., к которым присоединилась Россия, и изоляция страны в период пандемии приостановили реализацию этих проектов.
Все изменилось в 2022—2023 гг., когда начало специальной военной операции на востоке Украины стало тем фактором, который в одночасье выдвинул КНДР в число приоритетных для России стран258. После неожиданного визита в КНДР в июле 2023 г. тогдашнего министра обороны РФ С.К. Шойгу259 стали появляться сообщения о поставках из КНДР в Россию контейнеров260, в которых предположительно содержались боеприпасы261. Контейнеры, по данным Группы экспертов ООН, грузились как раз с причалов 1 и 2 в Раджине и транспортировались в порты, в том числе военные, российского Дальнего Востока262. По западным данным, в Россию поставлено более 20 тыс. контейнеров, которые могли вместить 4,2—5,8 млн снарядов 122 и 152 калибров, а по некоторым оценкам, даже 9 млн, поставлялись также РСЗО, ствольная артиллерия, баллистические ракеты263. Почти все это шло через порт Раджин. В иностранной прессе звучали оценки, что поставки северокорейских боеприпасов стали решающим фактором в российском успехе в кампании на Украине 2024 г., — это соответствует примерно одной трети или даже 40% боеприпасов, использованных Россией в украинской кампании 2024—2025 гг. 264. В 2024 г. впервые в современной истории иностранные войска из КНДР поддержали российскую армию в боевых действиях согласно ст. 4 базового двустороннего Договора.
Ким Чен Ын, по его собственным словам, исходит из долгосрочного идейного единства, говоря, что русские и корейцы поняли, «что защита своего суверенитета и достоинства дороже, чем строить место для комфортной жизни», и сегодня вместе должны «противостоять вызову со стороны неонацизма» — именно поэтому он приказал «вооруженным силам республики присоединиться к действиям вооруженных сил России»265. Воины КНДР внесли существенный вклад в изгнание украинских неонацистов из Курской области. В ходе визита в КНДР в июле 2025 г. С.В. Лавров также говорил о «настоящем боевом братстве», готовности “защищать интересы КНДР», «совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков»266.
Радикальное изменение международной обстановки, поворот России на Восток и стремительное сближение Российской Федерации и КНДР во всех областях должно в будущем привести к тому, что пограничный северо-восточный район КНДР станет хабом и авангардом российско-северокорейского сотрудничества. Здесь находится единственный погранпереход, где корейской стороной недавно проведены работы по расширению и модернизации пограничной станции Туманган. В непосредственной близости от него расположен построенный при содействии СССР нефтеперерабатывающий завод «Сынни», рассчитанный на российскую нефть (законсервирован в начале 1990-х гг.).
К югу от Расона расположена зона Вонсан-Кальма, которая с 2025 г. становится туристическим хабом и своего рода «второй столицей» КНДР на ее восточном побережье. Именно здесь создана инфраструктура для проведения международных встреч (их счет открыл в июле 2025 г. С.В. Лавров), намечается приток туристов, прежде всего из России (и, вероятно, Китая) на морской курорт.
Создание на базе Расона хаба российско-северокорейского сотрудничества, ценное само по себе и не нуждающееся в каких-либо внешних факторах, может иметь и серьезный «выход наружу». На базе этой «связки» может возникнуть серьезная международная инициатива с долгосрочными геополитическими последствиями при ведущей роли России. Реанимация двустороннего сотрудничества по развитию дельты реки Туманная, как в рамках специальной торгово-экономической зоны
«Расой», так и в рамках активно обсуждаемого проекта создания в южной части Приморского края на территории, граничащей с КНДР и КНР, беспошлинной и безвизовой зоны с льготным налогообложением, может стать одним из центральных, ориентированных на будущее, проектов формирования новой региональной подсистемы международного разделения труда и цепочек добавленной стоимости в Северо-Восточной Азии. Такой проект может быть увязан и с региональными инициативами ООН.
18 декабря 2023 г. российская Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила два законопроекта, определяющих условия создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, в том числе налоговые267. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2024 г. Президент РФ просил правительство и Госдуму ускорить принятие закона о МТОР — международных территориях опережающего развития. Первую такую территорию планируют создать в Приморье. Для резидентов МТОР будут действовать специальные условия: налоговые преференции, отсутствие ограничений на долю иностранных инвесторов в капитале, возможность закрыть публичную информацию о компании для защиты от санкций268.
В этом контексте по-новому смотрится обсуждаемая идея создания МРОТ в Хасанском районе Приморского края, ранее воспринимаемая критически из-за закрытости КНДР и режима санкций против нее. Согласно Договору, стороны «противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из Сторон, воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если в отношении одной из Сторон вводятся односторонние принудительные меры любой третьей стороной, Стороны предпринимают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия таких мер предпринимают шаги по ограничению распространения информации, которая может быть ис- пользована такой третьей стороной для введения и эскалации таких мер» (ст. 16)269.
Образование на стыке с северокорейской специальной торгово-экономической зоной «Расой» и китайской зоной приграничного экономического сотрудничества «Хуньчунь» зоны в Хасанском районе может стать своего рода «антисанкционной гаванью» (мы, конечно, ведем речь о незаконных односторонних санкциях врагов Китая, России и КНДР) для предпринимателей соседних стран. Это позволило бы не только нарастить взаимный товарообмен, но и вернуться к вопросу реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе созданию логистического хаба с задействованием российско-северокорейского СП «РасонКонТранс». Порты Хасанского района (Ломоносов, Славянка, Зарубино, Посьет) могли бы составить с портами торгово-экономической зоны «Расой» единую международную логистическую зону с различными терминалами, под различные грузы и назначения для современных судов с любой осадкой, в том числе и для обслуживания Северного морского пути. Задача сохранения присутствия российского бизнеса в Расоне выходит далеко за рамки чисто коммерческих интересов и имеет важное стратегическое значение для России и развития регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
В рамках создаваемого в координации с китайскими и северокорейскими партнерами специального административного района на юго-восточной окраине России, по статусу приближенного к внутренним офшорам, учрежденным в августе 2018 г. на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область), можно было бы достаточно оперативно решить вопросы финансового обслуживания коммерческой деятельности, обезопасив её от воздействия внешних санкций.
В качестве приоритетных сфер на начальном этапе можно, например, рассматривать сотрудничество в производстве текстильных изделий и продукции морского промысла. Размещение российских заказов на одежду массовой моды с использованием для этих целей северокорейских швей (находящихся на территории КНДР, а потому не нарушающих санкции ООН, запрещающих использование рабочей силы за рубежом) могло бы решить проблему замещения ушедших из России западных брендов. В свою очередь, привлечение работников из КНДР к трудоемкому процессу глубокой переработки рыбного сырья позволило бы существенно повысить выход готовой продукции морского промысла российского Дальнего Востока, в том числе идущего на экспорт. Следующим шагом могло бы стать налаживание контактов по совместной реализации через внутренний офшор продукции горнодобывающей промышленно -
2 9 Городилов М. Новая АЭС и миллион для многодетных: главные итоги Восточного экономического форума. — Банк Тинькоф. 06 сентября 2024. Доступ: 6j9950598807 (проверено: 20.10.2024).
сти, прежде всего, драгоценных, редкоземельных и цветных металлов [Лешаков, Соловьев 2023: 195—196].
Необходимо иметь в виду, что граничащий с КНДР и Китаем дальневосточный район много лет остается основной точкой притяжения для южнокорейских компаний, ориентированных на бизнес с КНДР и северо-востоком Китая. Напомним, что в 1997 г. Правительство России одобрило проект соглашения с Правительством Республики Корея о создании на территории специальной экономической зоны «Находка» южнокорейского индустриального парка. Однако финансовый блок фактически заблокировал этот перспективный проект под предлогом соблюдения налоговых режимов. В 1998 г. после дефолта государственное финансирование проекта было прекращено, а в 2006 г. Постановление Верховного Совета России от 24 октября 1990 г. о создании специальной-экономической зоны «Находка» утратило свою силу270.
Вторая попытка разместить на территории Приморского края южнокорейский технопарк была предпринята в годы президентства Мун Чжэ Ина. Этот проект был включен в повестку концепции «Девяти мостов» российско-корейского инвестиционного взаимодействия, предложенной Президентом Республики Корея на III Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 г. Затянувшиеся переговоры по данному вопросу между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и девелоперской компанией «Эл Эйч Корпорэйшн» к концу 2021 г. показали, что массово привлечь в этот проект южнокорейский бизнес с учетом узости местного рынка, дефицита трудовых ресурсов и сложностей с логистикой будет невозможно. В этом отношении перенос специальной экономической зоны в приграничный Хасанский район при условии его специального режима в отношении трудовых мигрантов позволил бы решить упомянутые проблемы за счет привлечения северокорейской рабочей силы и выхода на потребительский рынок Китая.
В данном контексте интерес представляет также трансграничное взаимодействие России, Китая и двух государств Корейского полуострова по развитию бассейна пограничной реки Туманная, как ее называют в России. В нижнем течении реки в 17 км от устья находится точка, где сходятся границы России, КНР и КНДР, что делает эту реку одной из самых геополитически чувствительных водных артерий в мире271. Идея создания «золотого треугольника роста» в бассейне Туманной на стыке границ трёх государств была озвучена в 1990 г. китайской стороной на состоявшейся в Чанчуне, в провинции Цзилинь, Конференции по экономическому и техническому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, на которой присутствовал один из авторов. Инициатива получила поддержку со стороны Программы развития ООН (ПРООН) [Забровская 2023: 61].
В июле 1991 г. ПРООН была одобрена региональная программа помощи странам Северо-Восточной Азии (КНДР, КНР, Монголии и Республике Корея) на 1992—1996 гг., в числе основных проектов которой была «Программа по развитию района реки Туманная» (Tumen River Area Development Program, TRADP). В ноябре 1991 г. к ней присоединились Россия и Япония. С самого начала TRADP развивался в двух концептуально разных направлениях. Одно из них делало акцент на «трансграничном сотрудничестве» между государствами-членами, другое предполагало создание логистического хаба Северо-Восточной Азии с выходом в Японское (Восточное) море [Lee 2003: 1345].
В 1995 г. пять государств (КНР, РФ, КНДР, Республика Корея и Монголия) подписали соглашение о создании межправительственной Консультативной комиссии Программы развития района реки Туманная. Проект стоимостью в 30 млрд долларов предусматривал 20-летний план по модернизации и интеграции обширного региона, включающего Северо-Восточный Китай, Монголию, Северную Корею и Восточную Россию, с Расоном в качестве центра [Abrahamian 2012: 2]. Тем не менее привлечь внешние инвестиции в регион не удалось, большинство предложений так и остались нереализованными. Главной причиной экономической несостоятельности проекта, как отмечал известный американский исследователь экономики региона Маркус Ноланд, стало то, что на момент создания комиссии в проекте участвовали пять стран, две из которых переживали экономический коллапс, две не являлись странами с рыночной экономикой и одна не входила ни в один из многосторонних банков развития [Noland 2000: 133].
В сентябре 2005 г. страны-участницы приняли решение продлить срок действия «Программы по развитию района реки Туманная» до 2015 г. и изменить ее название на «Расширенную туманганскую инициативу» (РТИ, Greater Tumen Initiative). В 2009 г. КНДР официально вышла из состава РТИ, мотивировав свое решение принятием СБ ООН актов, ущемляющих суверенитет КНДР и отсутствием ощутимого прогресса в реализации основных задач проекта. С учетом сохранения всеобъемлющих санкций против КНДР согласно многочисленным резолюциям СБ ООН, за которые начиная с 2006 г. голосовали и РФ, и КНР272, ее участие в практических действиях по проекту действительно представлялось затруднительным.
В настоящее время Китаем продвигается идея преобразования механизма РТИ в субрегиональную межправительственную организацию, которая бы стимулировала участие в развитии региона частного бизнеса, сориентировав сотрудничество на таких областях, как транспорт, энергетика, туризм, инвестиции и защита окружающей среды [Забровская 2023: 61—69]. Причем в последнее время данный проект неожиданно приобрел существенное геополитическое измерение, затрагивая стратегические интересы нашего главного партнёра — Китая, в том числе в его непростых отношениях с КНДР. Волнует она также других региональных и мировых акторов, включая в первую очередь Республику Корея, Японию, а также США и даже ООН. Проект может как стимулировать многостороннее сотрудничество, так и сформировать болезненные проблемные зоны.
Не будем скрывать, что инициированный Китаем Туманганский проект представляет для Москвы и Пхеньяна серьёзные экономические и геополитические риски. Коммерческая навигация в нижнем течении реки Туманная может создать прямую конкуренцию портам в Приморском крае (Владивосток, Находка) и в КНДР (Расой, Чхонджин). Имеются также опасения, что трансграничная экономическая зона, где в силу своего преобладающего веса неизбежно будет доминировать Китай, подвергнет эрозии суверенитет России и КНДР над их территориями в бассейне реки Туманной. Следует отметить, что, проанализировав весь пакет китайских предложений, предполагавших выделение части территории под строительство международного порта, российские исследователи и представители администрации Приморского края, первоначально с большим энтузиазмом воспринявшие Туманганский проект, стали относиться скептически к планам по созданию «нового Гонконга» в устье реки Туманная. Отрицательное отношение российской общественности к этому проекту усилилось в 1995—1997 гг., когда проходила демаркация российско-китайской пограничной линии в Приморье [Забровская 2023: 61—69].
В свою очередь китайская сторона, столкнувшись с инертностью России и КНДР в развитии своих приграничных территорий, в последние годы предпринимает качественно новые усилия по возрождению Туман-ганского проекта. В частности, китайские власти выдвинули инициативу по расширению приграничного туризма и созданию рекреационных зон в районе соприкосновения границ трёх государств — России, КНДР и Китая [Забровская 2019: 319—320].
Для Китая много десятилетий важнейшим геополитическим вызовом является задача обеспечить себе выход к Японскому (Восточному) морю, от которого его отделяют 17 километров государственной границы Российской Федерации и КНДР, протянувшейся по руслу реки Туманная. Данная тема стала предметом специального обсуждения на встрече В.В. Путина и Си Цзиньпина в мае 2024 г., когда китайский лидер узнал о планах России и КНДР значительно повысить уровень отношений: не секрет, что Пхеньян использует «российский фактор» в качестве рычага в осложнившихся в последнее время отношениях с Пекином.
Если обратиться к истории вопроса в геополитической плоскости, то КНР в XX веке с завидной регулярностью предпринимала попытки получить от России свободный доступ к использованию бассейна реки Туманная. Пекину это почти удалось в 1991 г., когда СССР пошел на уступки своему соседу, и в «Соглашении о советско-китайской границе между КНР и СССР» появилась 9 статья, которая гласит: «Советская Сторона в том, что ее касается, согласна, что китайские суда (под флагом КНР) могут осуществлять плавание по реке Туманная (Тумэньцзян) с выходом в море и обратно. Конкретные вопросы, связанные с таким плаванием, будут урегулированы по согласованию между заинтересованными сторонами»273.
Однако одним из главных препятствий для реализации китайского плана был и остается договор между СССР и КНДР о прохождении линии советско-корейской государственной границы от 17 апреля 1985 г. Согласно этому документу «Линия государственной границы между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-Демократической Республикой от стыка границ СССР, КНДР и КНР проходит по середине главного русла реки Туманная до ее устья и далее в Японском (Восточно-Корейском) море до точки пересечения ее с линией внешнего предела советских и корейских территориальных вод»274. Такое положение дает право судам КНДР и России находиться в пограничных водах только до линии государственной границы и не предусматривает прохождение судов третьих стран.
Эта сложная и во многом конфликтная тема вернулась в повестку дня российско-китайских отношений лишь в декабре 2023 г. В совместном коммюнике по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине фигурировал лаконичный пункт о том, что стороны договорились «совместно с КНДР продолжать конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная, включая организацию совместного экологического осмотра реки». В мае 2024 г. эта формулировка была практически дословно воспроизведена в совместном заявлении России и КНР по итогам визита Президента В.В. Путина в Китай: «Стороны совместно с Корейской Народно-Демократической Республикой продолжат конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная»275.
Важное значение будет иметь позиция КНДР по данному вопросу. Напомним, что в ходе пхеньянского визита российского президента по инициативе КНДР было подписано упомянутое выше межправительственное соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная, который должен дополнить уже давно функционирующий российско-северокорейский железнодорожный мост «Дружба». Такой мост, который должен быть открыт к годовщине подписания Договора в июне 2026 г., изменит «заданные условия» логистики в дельте Туманной.
Авторы не располагают информацией, которая подтверждала бы наличие значительного грузового или пассажирского траффика через порты Приморья, который могли бы быть переключены на маршрут через устье Туманная в случае получения Китаем прав на коммерческое судоходство. Равным образом не удалось обнаружить исследования о возможном экологическом ущербе и его масштабах в случае хозяйственного освоения этого региона тремя странами. Возможно, России следовало бы для начала активизировать изучение этих вопросов в рамках РТИ с участием партнёров, а также по линии двустороннего диалога с КНДР для принятия в будущем взвешенных решений. Нахождение развязок касательно будущего дельты Туманной способствовало бы не только процветанию региона, но и, при грамотном ведении дела, могло бы привести к существенному укреплению позиций России как инициатора позитивных изменений, формированию новой геоэкономической картины в Северо-Восточной Азии.