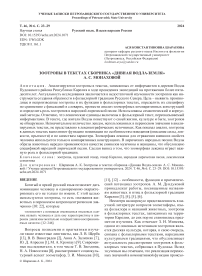Зоотропы в текстах сборника «Дивная водла-земля» А. С. Монаховой
Автор: Шарапова А.К.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 6 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Анализируются зоотропы в текстах, записанных от информантов в деревне Водла Пудожского района Республики Карелия в ходе проведения экспедиций на протяжении более пятидесяти лет. Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности зоотропов как инструмента создания образности в фольклорной традиции Русского Севера. Цель - выявить производные и непроизводные зоотропы и их функции в фольклорных текстах, определить их специфику по сравнению с фиксацией в словарях, провести анализ зооморфных компаративных конструкций и определить роль зоотропов в народной лирической песне. Использованы семантический и корпусный методы. Отмечено, что лексические единицы включены в фольклорный текст, пересказываемый информантами. В тексте, где жители Водлы повествуют о своей жизни, культуре и быте, зоотропов не обнаружено. Незначительное количество лексем, использованных в переносном значении в анализируемых текстах, не представлено в лексикографических источниках. Как показал анализ, зоотропы в данных текстах выполняют функцию номинации по особенностям поведения (описание силы, ловкости, прыткости) и по качествам характера. Зооморфная лексика для отражения внешних свойств человека используется только в компаративных конструкциях. В лирических народных песнях Водлы образы животных нередко применяются в качестве символов мужчины и женщины, что обусловлено спецификой народной лирической песни. Сделан вывод о том, что зооморфная лексика играет важную роль в фольклорной традиции.
Зоотропы, пудожский говор, говор карелии, народная лирическая песня, лексическая семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/147244415
IDR: 147244415 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1071
Текст научной статьи Зоотропы в текстах сборника «Дивная водла-земля» А. С. Монаховой
Богатый и яркий русский язык позволяет дать номинацию человеку и одновременно охарактеризовать его не только по имени. С этой целью используются зоотропы, то есть «названия животных в переносном антропоцентрическом значении» [10: 22], которые
«позволяют с помощью имеющихся языковых единиц назвать человека и дать ему характеристику в широком диапазоне ментально и перцептивно воспринимаемых качеств» [12: 246].
Вопросы полисемии и прагматики изучали такие известные лингвисты, как Л. В. Щерба [13], В. В. Виноградов [2], Анна А. Зализняк [7], Ю. Д. Апресян [1], М. А. Кронгауз [9]. Современные исследователи, в том числе Т. В. Звездина, Н. А. Новоселова [8], рассматривают социокультурный аспект зоометафор, З. И. Минеева [10],
[11], [12] – особенности, функции и прагматический потенциал зоотропов. А. М. Дундуковой принадлежат работы, посвященные названиям животных и птиц в фольклорной традиции Карелии [3], [4], [5], [6].
Несмотря на широкую представленность в научной литературе вопросов зоометафоры, языка фольклора и названий животных, зоотропы в фольклорных текстах, записанных на территории Карелии, до сих пор не становились предметом изучения. Как отмечает З. И. Минеева, одним из основных источников зоотропов является русская культура, которая, в свою очередь, связана с фольклорными текстами, народными культурными традициями, что обусловливает актуальность рассмотрения зоотропов в фольклорных текстах, собранных в Пудожье. Вслед за ученым мы отмечаем, что реализация переносных значений в номинативной функции происхо- дит в том числе «в составе сравнительных и параллельных конструкций» [10]. В связи с этим в статье рассмотрены компаративные конструкции, в которых присутствует сравнение человека и животного по чертам характера или внешности.
Исследование проведено на материале двухтомного сборника А. С. Монаховой «Дивная Водла-земля» 2012 года (Сборник)1, который представляет собой корпус текстов, записанных в разные годы от информантов – жителей деревни Водла – в ходе проведения экспедиций на протяжении более 50 лет. Наряду с рассказами информантов о быте и культуре в Сборнике представлены народные лирические песни, частушки, заговоры, деревенские романсы, описание похоронных и свадебных обрядов, а также воспоминания о жизни тех, кто прожил в Пудожском районе всю жизнь. Рассказчиками в основном выступали пожилые представители местного населения, хранившие воспоминания о родственниках, культуре, повседневной жизни и быте пудожских деревень.
Целью проведенного исследования стало изучение семантики и функций зоотропов как инструмента создания образа героя повествования в текстах, записанных от носителей русского говора Карелии в деревне Водла. Для достижения поставленной цели выявлена семантическая, синтаксическая и стилистическая специфика отдельных лексических единиц и включающих их конструкций. Объектом стал водлин-ский говор пудожского диалекта русского языка, предметом исследования послужили зоотропы, компаративные конструкции с зооморфными фольклорными образами. В работе применялся семантический метод, компонентный анализ, сопоставительный метод с использованием «Большого толкового словаря» под ред. А. С. Кузнецова (БТС)2 2000 года, «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» 1995 года (СРКГ)3, а также Толкового словаря словообразовательных единиц Т. Ф. Ефремовой 2005 года (Ефремова)4, корпусный метод при обращении к Национальному корпусу русского языка (НКРЯ)5, стилистический анализ фольклорных текстов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Диалектная специфика
В расшифровках записей сохраняется местный говор, в том числе отражаются фонетические особенности, например так называемые оканье и ёканье, йотирование, мягкий звук [ц] звучит вместо [ч] и [ц] (Сборник: 37); грамматические – отличные от норм русского языка падежные окончания или обороты со страдательным залогом и др.; лексические особенности – характерные для северного говора слова древнерусского происхождения и др. Ранее эти явления изучались такими известными диалектологами, как Б. П. Ардентов, В. В. Колесов, Л. П. Михайлова.
Зоотропы
В материалах сборника «Дивная Водла-зем-ля» А. С. Монаховой обнаружены 20 зоотропов ( гад, голубка , жаба , змея , лебедь , паразит , сокол , сорока , свинья , утка, чайка ), в том числе диминутивы с суффиксами субъективной оценки: - оньк - ( голубонька ) с ласкательным значением (Ефремова: 349), продуктивный в фольклоре и разговорной речи формант, образующий имена pluralia tantum с ласкательным значением (Ефремова: 494), -ик - (ежики ) со значением уменьшительности и экспрессией ласкательности (Ефремова: 181), - ушк - ( голубушка , горностаюшка , заюшка, лебедушка), - инк - ( лебединка) (Ефремова: 202), - к - ( овечка ) (Ефремова: 490), - иц - ( рыбица ) (Ефремова: 221).
В свадебной приговорке, записанной от Александры Борисовой в 1998 году, зоотроп жаба встречается в качестве номинации мужчины с оттенком пренебрежительности:
« А у родимого-то батюшки, Да у родимой-то матушки сыто ела, звонко пёрнула. А у мужа у жабы Не высписся » (Сборник: 237).
При сопоставлении материалов Сборника и лексикографических источников отмечено переносное значение слова жаба: «Перен. О болтливом человеке. Когда болтает много, так кто-нибудь возьми и скажи: “Жаба, сядь”» (СРГК), фиксируется в СРГК и Сборнике. В БТС переносное значение у этой лексемы не зафиксировано. В основном корпусе НКРЯ 2000–2019 годов лексическая единица представлена в переносном значении ‘некрасивая женщина’ с оттенком пренебрежительности:
« Вот поэтому Светка, жаба в оборках, ей этот компромат и предоставила для расправы, надеялась, видно, что это ей зачтется, в хорошем смысле» [М. Зо-симкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] (НКРЯ).
Отметим, что лексическая единица (ЛЕ) лебедь с переносным антропоцентрическим значением в качестве средства выразительности, как это представлено в колыбельной, записанной от Марфы Ковиной в 1971 году, в СРГК и НКРЯ не отмечена:
« Спи, Оленушка моя, Да лебедь бела дорога » (Сборник: 167).
В БТС лексема имеет сходное значение, что и в фольклорном тексте («2. Только ж. (обычно в обращ.). Нар.-поэт. О молодой женщине, девушке» (БТС: 488)). В основном корпусе НКРЯ 2000-2019 годов слово встречается в качестве аллюзии на сказку о гадком утенке:
« В довершение Сережа был правдив, то есть не приноравливался ко вкусам, но представал таким, каков он есть в действительности: наполовину лебедем , наполовину гадким утенком взрослого размера, в подростковой тесной курточке и с ранним увяданием под акварельно-мутными глазами, всегда тревожными [О. А. Славникова. Прыжок в длину (2014-2016)] (НКРЯ), а также аллюзии на балетную миниатюру «Умирающий лебедь»:
«Домой возвращалась всегда больная и несчастная. – А, умирающий лебедь явился! – язвила Анна. – Конечно - лежачего не бьют! [Л. Мядзелиц. Иришка (2011) // «Ковчег», 2012] (НКРЯ).
В тексте частушки, пересказываемом Верой Чистяковой в 2000 году, лексема паразит используется как средство создания образа одушевленного полового органа:
« А через гору, через межу Хер кричит: “Манду зарежу!”, А манда в ответ кричит: “Не зарежешь, паразит !” » (Сборник: 317).
В структуре семантики слова отсутствуют компоненты ‘тунеядец’ и ‘дурной человек’, которые есть в словарной статье БТС: «2. Тот, кто живет чужим трудом; тунеядец. 3. Бранно. О дурном человеке; о человеке, совершившем плохой поступок» (БТС: 780). В СРгК ЛЕ не зафиксирована, а в НКРЯ встречается в качестве пейоратива:
« Спросишь: “Что ж ты гадишь, паразит ?” А он: “А мне за это не платят” » [А. Бармин. Трудолюбы, дармоеды и кибернетика // «Дальний Восток», 2019] (НКРЯ).
Слово сорока, представленное в частушке, записанной от Клавдии Васюновой в 2000 году, выступает в качестве обращения к девушке без указания на особенности ее речевого поведения:
« Ты сударушка моя, Сорока белобокая, Раньше я к тебе ходил, теперь гора высокая» (Сборник: 351).
В СРГК единица не имеет переносного антропоцентрического значения. В БТС слово отмечено со значением «О болтливом, шумном человеке; о том, кто любит сплетничать (преимущественно о женщине)» (БТС: 1238). В НКРЯ слово представлено в составе компаративных конструкций, примеров использования в качестве зоотропов не отмечено.
Значение лексической единицы гад в частушке, записанной от Веры Исаевой, совпадает со значением, отмеченным в БТС и НКРЯ; в СРГК оно не представлено, как и в Словаре русских народных говоров:
« Я любила гада , Уважала гада , У него, у гада , Целая бригада » (Сборник: 286); ср. «2. Бранно. Отвратительный, мерзкий человек» (БТС: 190); ср. « Брата убило! Ему всего-то 19 лет! Вот какие гады ! Кто же это сделал ? [П. В. Жеребцова. Дневник (2002)] (НКРЯ).
То же наблюдение касается лексемы голубка в песне, записанной от Марфы Васюновой:
« Ой, называл он меня голубкой И в алы губы целовал» (Сборник: 115); ср . « 2. Разг. Ласковое обращение к женщине» (БТС: 216); ср. «Я для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, голубка моя» [В. М. Недошивин. Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург (2012)] (НКРЯ).
Лексическая единица свинья отмечена в частушке, записанной от Валентины Борисовой в 2009 году, и выступает в качестве пейоратива:
« Ай мы с миленочком гуляли, Он назвал меня свиньей . Люди думали свинина, Стали в очередь за мной» (Сборник: 449).
В БТС лексема имеет компоненты значения ‘грязный’ и ‘неопрятный’: «2. Разг. О грязном, неопрятном человеке с низменными привычками» (БТС: 1160). В НКРЯ свинья в большинстве случаев встречается в качестве пейоратива, как и в исследуемом материале Сборника:
«Хулиган! Свинья ! Мерзавец!» [Ф. Ошевнев. Записки букиниста (2015) // «Ковчег», 2016] (НКРЯ).
Записанная от Анны Боботиной кадрель «Ой, пойдемте-ко, ребятушка» содержит лексему сокол:
«Да к хороводу подошла, Да черным глазом навела На Ванюшу- сокола » (Сборник: 138).
Это же значение фиксируется в БТС: «2. Нар.-поэт. О мужчине, юноше, отличающемся удалью, отвагой, красотой» (БТС: 1231), что подтверждается данными НКРЯ:
« - Я и умереть готова, лишь бы тебе было хорошо, - поет жаворонок за девушку. - Сокол ты мой ясный... Что - сокол ?» [В. Ю. Кунгурцева. Ведогони, или Новые похождения Вани Житного (2009)] (НКРЯ).
В текстах Сборника выявлены следующие лексические единицы с переносным антропоцентрическим значением: зоотроп чайка («У калитки заветная груша, Где не раз целовал я тебя. Скучно, грустно, моя дорогуша, Сероглазая чайка моя » (Сборник: 177), записан в тексте песни от Александры Петровой); диминутив рыбица, образованный по модели рыба > рыбица (рыба + -иц- ) (« Пила рудицу белая рыбица , Белая рыбица - красна девица» (Сборник: 312), записан от Веры Чистяковой в песне), а также модифика-ты с переносным антропоцентрическим значением: голубонька, образованный по модели голубка
‘женщина > голубонька (от основы голубк(а) отнят суффикс -к- , в состав основы входит суффикс -оньк- ) («Спи, моя подруженька, Да спи, моя голубонька » (Сборник: 167), отмечен в тексте колыбельной, записанной от Марфы Чистяковой); горностаюшка , образованный по модели горностай ‘ловкий человек’ > горностаюшка ( горностай + -ушк-) (« Да нать поскок да сера заюшка, Да поворот да горностаюшка » (Сборник: 62), записан от Анны Боботиной в тексте песни «Ты подружка моя милая»); лебединка, образованный по модели лебедь ‘девушка’ > лебединка ( лебедь + -инк- ) (« Баю, баю, Лену бай, Ягодиноч-ка моя, Лебединка дорога » (Сборник: 167), отмечен в тексте колыбельной, записанной от Марфы Чистяковой). Эти слова не имеют переносного значения в материалах БТС, СРГК и НкРЯ. Мо-дификат горностаюшка выполняет функцию номинации по схожести поведения человека с поведением животного с семантикой ласкательности. Слово рыбица в выявленном тексте Сборника выполняет номинативную функцию и имеет стилистическую народно-поэтическую маркированность. Лексемы голубонька , лебединка и чайка отмечены в качестве экспрессивных вокативов с мелиоративной коннотацией.
Отметим интертекстуальность используемых единиц в народной поэтической речи, что, однако, не фиксируется лексикографическими источниками. Так, например, лексема голубонька , используемая в фольклорном тексте, имеет переносное антропоцентрическое значение в Словаре русских народных говоров («2. Ласковое название женщины или девушки (обычно в обращении)»), тогда как не отмечается в других словарях.
Дериват заюшка образован по модели заяц ‘любимый человек’ > заюшка ( за]- + -ушк- ). В колыбельной, записанной от Марфы Чистяковой, лексема имеет компонент значения ‘умеющий хорошо прыгать’ (« Да нать поскок да сера заюшка , Да поворот да горностаюшка » (Сборник: 62)). В СРГК и БТС лексема не встречается. В НКРЯ присутствует в качестве эмоционально окрашенного вокатива:
« Заюшка , ну что ты? - Татьяна Ивановна берет девочку на руки» [О. Нестерова. Диагноз: мама-кукушка // Труд-7, 31.05.2000] (НКРЯ).
Диминутив ежики (еж ‘человек, находящийся в постоянной защите’ > ежик (еж + -ик- )) отмечен в тексте частушки, записанной от Феклы Богдановой:
« Мы ребята ежики , У нас в карманах ножики, мы без ножиков не ходим, Без каменьев никогда » (Сборник: 490).
В СРГК переносного значения не зафиксировано, в БТС оно присутствует: «Разг. О неуступчивом, обидчивом, колючем человеке» (БТС: 295). В НКРЯ примеров использования в переносном антропоцентрическом значении не отмечено.
Переносных значений у модификата лебедушка ( лебедь ‘девушка’ > ( лебедь + -ушк- )), отмеченного в тексте свадебного причитания, записанного от Марии Васюновой, в СРГК не зафиксировано. В БТС лексема имеет переносное значение. В НКРЯ вхождений с лексемой не обнаружено:
«А спасибо ти, золовушка, Да белая лебедушка , За меня да заступиласи, Свекру в ноги повалиласи » (Сборник: 58); ср . «2. О молодой женщине, девушке» (БТС: 488).
Слово в аналогичной функции используется в других фольклорных жанрах [4: 86], [5: 73].
Модификат овечка (овца ‘робкий, безответный человек’ > овечка (овца + -к )), отмеченный в частушке, записанной от Валентины Борисовой, зафиксирован с семантикой, которая не включает компоненты ‘покорный’, ‘безответный’, тогда как в значении, указанном в БТС, они присутствуют :
« Милая моя, Белая овечка , Давай сделаем с тобой Живого человечка » (Сборник: 419); ср. «Разг. О робком, безответном человеке» (БТС: 696).
Отметим, что во вхождениях НКРЯ семантика диминутива овечка включает компоненты ‘покорный’, ‘слепо следующий’:
« Твоя обязанность - воспитать людей, а не овечек , работников, не проповедников: в здоровом теле – здоровый дух» [Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940-1980-е) (2015)] (НКРЯ).
Лексема лебедушка , записанная от разных информантов в разных текстах, представлена со значением ‘юная девушка’:
«Варварушка девушка, Да белая лебедушка. Белая Лебедушка, Зачесана головушка» (Сборник: 200).
В лексикографических источниках слово не представлено, в НКРЯ отмечены вхождения ЛЕ с тем же значением, что зафиксировано в материалах Сборника:
« Босиком по зеленой траве, в длинных расшитых сарафанах да кокошниках шитых жемчугами. Одно слово - лебедушки [А. Г. Асмолов. Белошвейка и белоручка (2015)] (НКРЯ).
Диминутив голубушка с модификационным суффиксом -ушк-, используемым для образования слов «3. Pluralia tantum с ласкательным значением» (Ефремова: 494) (голуба ‘человек’ > голубушка (голуба + -ушк), отмечен в нескольких текстах Сборника («А ты спишь, моя голубушка. У Добротушки у матушки Было рано не разбужено Да на работушку не послано» (Сборник: 64)), с аномальным значением в БТС («2. = Голубка (2 зн.). Милая, г., не расстраивайся так!» (БТС: 216)), а также в НкРя («Ты еще, голубушка, не знаешь, что я знаю...» [Александр Мардань. Тайна на троих // «Дальний Восток», 2019] (НКРЯ)).
Зоотропы часто являются эмоционально окрашенными единицами. В приговорке, записанной от Марии Меньшиковой, отмечен случай, когда лексическая единица нейтральна с точки зрения оценки: « Зовут-то зовуткой, А величают уткой » (Сборник: 624). Отметим, что в СРГК и БТС лексема не выявлена с переносным значением. В НКРЯ в переносном антропоцентрическом значении слово фиксируется только в составе фразеологизма подсадная утка :
« Она неохотно подняла взгляд - не хотелось ни с кем разговаривать, ни с какой подсадной уткой , ни с одним как бы случайно оказавшимся рядом ее соотечественником, наверняка молодым и наверняка неженатым » [М. Галина. Добро пожаловать в нашу прекрасную страну! (2013)] (НКРЯ).
В основном зоотропы и суффиксальные мо-дификаты используются в качестве оценочного средства. Выделено 14 единиц с положительной коннотацией - голубка, голубонька, голубушка, горностаюшка, заюшка, лебедь, лебедушка, ле-бединка, овечка, рыбица, сокол, сорока, утушка, чайка , например:
«Надоть силушка звериная, Да могута да лошадиная, Да нать поскок да сера заюшка , Да поворот да гор-ностаюшка » (Сборник: 62).
Пять лексических единиц ( гад, жаба, змея, свинья, паразит ) используются с негативной коннотацией. Без оценочного компонента встретились две лексемы: утка и ежики .
Как показало исследование, зоотропы представлены в текстах разных жанров неравномерно. Наибольшее количество лексических единиц встречается в жанре частушки, где отмечены зоотропы: гад, ежики, овечка, паразит, свинья, сорока. В свадебных песнях зафиксировано четыре слова с переносным антропоцентрическим значением (голубушка, лебедь, лебедушка, утуш-ка), по три единицы - в свадебных причитаниях (голубушка, горностаюшка, заюшка), колыбельных (голубонька, лебедь, лебединка) и кадрелях (лебедь, лебедушка, сокол). Также зафиксированы слова голубка и чайка в текстах фольклорных песен, в похоронном причитании модификат голубушка, в балладе слово змея, в жанре свадебных поговорок отмечена лексема жаба, в тексте игровой песни - слово рыбица, в приговорке - утка.
Лексемы нередко используются с постоянными эпитетами: белая лебедушка, сера утушка, бела рыбица и др.
«Пила рудицу белая рыбица , Пила рудицу белая рыбица . Бела рыбица - красная девица, Бела рыбица -красна девица » (Сборник: 312).
Примечательно, что выделенные лексические единицы используются только в фольклорных текстах, пересказываемых информантами, в которых формирование яркого образа героя особенно важно. В текстах, где жители Водлы повествуют о своей жизни, культуре и быте, зоотропов не обнаружено.
Компаративные конструкции
В материале Сборника выявлена 21 компаративная конструкция: а) с союзами как и что (« У нее глаза, как от теленка» (Сборник: 407); « Глазки, что у рыбочки , Как у рыбки , у ерша » (Сборник: 490) и др.); б) с творительным падежом сравнения, например: «Пятьдесят бы было - дивья было бы, конём бы бегала!» (Сборник: 432); «Я во речку серой утушкой , А во озёрышка лебёдушкой» (Сборник: 81).
Выделенные компаративные конструкции дифференцированы функционально. Так, отмечено девять случаев, когда подчеркивается внешнее сходство человека и животного:
« кудреватый, как баран» (Сборник: 284); «похож на петуха» (Сборник: 285); «А хорошо товарищ пляшет, Сапоги с калошами, Только губушки отвисли, Как у старой лошади» (Сборник: 330).
Шесть конструкций используются для указания на особенности поведения человека, схожего с поведением животных:
« набежало с улицей, как баранов и овцей» (Сборник: 448); «повыла, как собака» (Сборник: 317); « девчонка, как белая чайка» (Сборник: 420); « вертлявая, как стрекоза» (Сборник: 568); «мой миленок, как теленок, Только разница одна: Мой миленок пьет из рюмок, А теленок из ведра» (Сборник: 261); «Сижу одна, как волк в кустах» (Сборник: 351).
В трех случаях сравнение выступает скорее инструментом фольклорной поэтики, поскольку в тексте отсутствует мотивация сравнения человека и животного по качествам или внешности объекта номинации:
« Пела, пела песенки, Да улетела с лесенки, Со парадного крыльца Да прокатилась, как овца» (Сборник: 283); « Сегодня девчонка в день свадьбы другая. Как белая чайка , у моря грустит » (Сборник: 420); « Ты оставила, подружка милая, Своих-то малых детонек, Как курушку с цыплятами, Как утушку с утятами » (Сборник: 616).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ текстов сборника «Дивная Водла-зем-ля» А. С. Монаховой показал наличие специфики в употреблении зоотропов. Не вся зооморфная лексика, представленная в сборнике, находит отражение в лексикографических источниках. Отмечается наличие переносного антропоцентрического значения, которое не фиксируется выбранными словарями, что свидетельствует о большом потенциале использования названий животных в качестве номинации человека. Зоотропы используются в качестве оценочного средства: в 18 случаях лексемы включают пейоративную или мелиоративную коннотацию. В двух случаях лексические единицы не имеют оценочного коннотативного компонента. Зоотропы с оценочным компонентом включены в тексты, в которых необходимо формирование яркого образа героя: в частушки – с пейоративной коннотацией, свадебные песни и причитания – с мелиоративной коннотацией, в другие тексты, требующие образности. При этом информанты при повествовании о своей жизни используют только компаративные конструкции. В материале сборника выявлены 22 сравнительные конструкции, построенные с помощью союзов и с творительным падежом сравнения. Выделенные компаративные конструкции дифференцированы по функциям: они используются для отражения внешнего сходства человека и животного (девять конструкций), для указания на сходство поведения человека и животного (шесть конструкций), для передачи языковой игры, насмешки (три конструкции).
Список литературы Зоотропы в текстах сборника «Дивная водла-земля» А. С. Монаховой
- Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. I: Лексическая семантика. 2-е изд., испр. и доп. М.: Школа «Языки русской культуры»: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. 472 с.
- Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. М.: Наука, 1977. 312 с.
- Дундукова А. М. К вопросу о трансформации парадигматических и синтагматических связей слов в фольклорном тексте (на материале лексики природного мира) // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. 2016. Т. 22, № 1. С. 143-146.
- Дундукова А. М. Лексико-семантическая подгруппа «Водоплавающие птицы» в «Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 5 (118). С. 85-88.
- Дундукова А. М. Названия животных и растений как тропо- и фигурообразующие элементы фольклорного текста (на примере «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2012. № 7 (128). С. 73-75.
- Дундукова А. М. Орнитонимы в «Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга: состав и функционирование // Птица как образ, символ, концепт в литературе, культуре и языке: Коллективная монография / Редкол.: А. И. Смирнова (отв. ред.), А. В. Алексеев, И. Н. Райкова, Д. П. Шульгина. М., 2019. С. 320-326.
- Зализняк Анна А. Русская семантика в типологической перспективе. М.: Языки славянской культуры, 2013. 640 с.
- Звездина Т. В., Новоселова Н . А. Социокультурный аспект реализации потенциала инвек-тивного функционирования зоометафоры «собака / кобель» // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 12 (408). С. 89-94 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/sotsiokulturnyy-aspekt-realizatsii-potentsiala-invektivnogo-funktsionirovaniya-zoometafory-sobaka-kobel (дата обращения 20.02.2024).
- Кронгауз М. А., Пиперски А. Ч., Сомин А. А. Сто языков. Вселенная слов и смыслов. М.: АСТ, 2018. 224 с.
- Минеева З. И. Прагматический потенциал зоотропов у А. С. Пушкина // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 1. С. 22-30. Б01: 10.15393/uchz.art.2021.564
- Минеева З. И. Русские зоотропы в национальном корпусе русского языка. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. 94 с.
- Минеева З. И. Функции русских зоотропов // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 5 (61). С. 246-250.
- Ще рба Л. В . Избранные работы по русскому языку / Предисл., подбор текстов, примеч. и ред. М. И. Матусевич; Акад. наук СССР. Отд-ние литературы и языка. М.: Учпедгиз, 1957. 188 с.